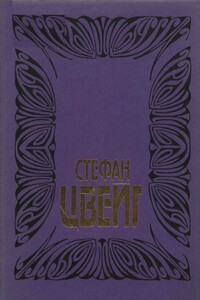Нужно сдать наш труп. Мы въезжаем в ворота лазарета.
Директор во дворе... Он сразу же узнает меня.
Я подхожу к нему.
— Вы намерены выдать меня?
— Я вам отвечу через пять минут.
Они показались мне почти короткими, эти пять минут. Я едва успел оправить рубашку, распрямить воротник, пригладить волосы пятерней. Подумайте, сколько дел: привести в порядок туалет, составить прощальное слово, принять подобающий вид.
Появляется директор.
— Откройте ворота, — кричит он привратнику.
И он отвернулся, боясь не выдержать и не желая, чтобы я поблагодарил его хотя бы жестом.
Хромоногая лошаденка снова трогается в путь.
— Куда ехать?
— На улицу Монпарнас.
К секретарю Сент-Бёва! Он спрячет меня, если только мне удастся добраться до него.
Мы проезжаем на нашей загнанной кляче по переулкам, где я прожил двадцать лет, где я проходил во вторник с батальоном Отца Дюшена, где я безотлучно находился в течение трех первых дней недели.
Но вот храбрости возницы пришел конец.
— Я не собираюсь рисковать своей шкурой... хватит с меня... Слезайте... и прощайте!
Он изо всей силы стегнул лошадь кнутом и скрылся.
Где бы найти приют?
Постойте! В десяти шагах отсюда, в переулке дю-Коммерс, есть гостиница, где я когда-то жил. Дорога к ней идет по пустынной улице Эпрон и по переулку,
Уже пять дней как квартал взят; красные штаны попадаются редко.
Поднимаюсь по лестнице. В квартире невообразимый шум и крик.
— Да, я капитан Летеррье, говорю вам, что ваш Вентра издох, как последний трус! Он ползал по земле, плакал, просил пощады... Я сам видел!
Тихонько стучу, мне открывает хозяйка.
— Это я, тише! Если вы меня прогоните, я погиб...
— Входите, господин Вентра.
…………………………….
Вот уже несколько недель, как, забившись в свою дыру, я жду случая проскользнуть у них между пальцев.
Но удастся ли мне это?.. Не знаю.
Два раза я чуть было не выдал себя. Соседи могли видеть мою высунувшуюся из окна голову с бледным, как у утопленника, лицом.
Все равно! Возьмут — так возьмут!
Теперь моя совесть спокойна.
Обратив взор к горизонту, на столб Сатори[219] — нашу Голгофу — я много передумал в своем уединении и знаю теперь, что жестокости толпы — это преступления честных людей, и я не тревожусь больше за свою память, закопченную в пороховом дыму и запятнанную запекшейся кровью.
Время омоет ее, и имя мое сохранится в мастерской социальных войн как имя рабочего, который не был бездельником.
Моя злоба утихла — у меня все же был свой счастливый час.
Сколько других детей, как и я подвергавшихся побоям, сколько других бакалавров, голодавших, подобно мне, сошли в могилу, так и не получив отмщения за свою мрачную юность!
А ты — ты собрал свои лишения и горести и повел свой взвод новобранцев на восстание, ставшее великой федерацией страданий.
На что же ты жалуешься?
Это — правда. Так пусть же придут за мной, пусть солдаты заряжают свои ружья, — я готов.
……………………………………
Я только что перешел пограничный ручей.
Я вырвался от них и снова могу быть с народом, если народ будет брошен на улицу и вовлечен в борьбу.
Смотрю на небо, в ту сторону, где Париж.
Оно ярко-синее, с красными облаками — точно огромная блуза, залитая кровью.