Индийская философия. Шраманский период - [3]
Нетрудно заметить, что, стань мы на любую из этих позиций сравнительной философии, «первые философы Индии» окажутся без родовых признаков философов. Приняв дискретную картину разнородных «философских организмов» (очень напоминающую картину дискретных цивилизаций в историософии О. Шпенглера или А. Тойнби), мы лишаемся шансов видеть в «индийской философии» вид общего рода «философия», а согласившись с отказом от универсальной категории философия, мы отказываемся от самого родового единства, по отношению к которому индийская философия стала бы видом. Однако обе эти позиции вполне доступны для критики — в первом случае логической, во втором — исторической, несмотря на содержащиеся в каждой из них элементы истины.
Элемент истины в дискретной картине философских миров состоит в том, что философские традиции различных историко-культурных регионов обладают специфическими чертами, отражают разные типы религиозных мировоззрений, связаны с особенностями «духа народа» и «духа времени», с нетождественностью менталитетов. Однако с логической точки зрения, эта дискретная картина, в которой «индийская философия», «китайская философия», «арабо-мусульманская философия» и прочие сополагаются с «европейской философией», будучи феноменами, типологически от нее отличными, сопоставима с утверждением, согласно которому существуют различные типы треугольников: треугольные, прямоугольные и круглые. Или, по-другому, они оказываются дробями с несопоставимыми знаменателями, которые невозможно сравнивать, а потому нельзя говорить и о специфике этих философских миров, ибо специфика (само слово производно от латинского species — «вид», «разновидность») может иметь место только на фоне чего-то общего, родового, а в данном случае утверждается лишь специфичность метров в сравнении с килограммами. Таким образом, дискретная картина философий как демонстрация их специфичности разрушает сама себя и есть результат самообмана тех, кто ее отстаивает (если, разумеется, здесь не преследуются иные, прагматические цели, к философии отношения не имеющие).
Отвержение универсальной значимости понятия «философия» логичнее, чем только что рассмотренная картина: лучше уж, конечно, утверждать, что треугольников нет вообще, чем настаивать на возможности существования треугольников круглых. Имеются и более серьезные основания для отрицания «общей философии»: понимание философии разнится не только в различные, но и в одни и те же эпохи, и не только у разных философов, но даже у одного и того же, и не только в разных его произведениях, но даже в одном. Более того, неодинаковые способы понимания философии обнаруживаются нередко и в одном разделе одного произведения одного философа. Например, если взять такой основоположный философский памятник, как «Государство» Платона, и внимательно просмотреть его шестую книгу, то обнаружится, сколь неоднозначно представляет себе философию ее автор. Платон говорит здесь об особой «философской душе» как о чем-то вполне природном и в то же время уверенно называет философию одним из ремесел, сопоставимым со всеми остальными, т. е. считает ее сферой искусства; философия нужна для преодоления телесных стремлений и аффектов, т. е. имеет, кажется, сугубо духовно-практическое назначение, и одновременно характеризуется как то, что следует изучать ради получения хорошего образования и частично для реализации политической карьеры; философ — это тот, кто общается с Божеством или, иначе, мистик, и вместе с тем философ — тот, чье главное ремесленное орудие — доказательства, аргументация, которая, как допустимо предположить, при непосредственном общении с Божеством должна быть уже вполне излишней[8]. Если подобный плюрализм в понимании философии налицо уже у одного из первых мыслителей, кто вообще стал анализировать феномен под названием «философия», то можно представить себе размах этого плюрализма в масштабах тех двух с половиной тысячелетий философствования, которые протекли со времени написания платоновского диалога[9].
И тем не менее шансы философии сохранить свои позиции в качестве универсалии человеческой культуры оказываются все же не столь безнадежными, как то может показаться. Удивительное дело, но при всем многообразии мнений о том, что такое философия и кто такие философы, это многообразие немедленно исчезает при осмыслении философами предметной структуры философии как особого рода познавательно-исследовательской деятельности. Выясняется, что с самых ранних времен, когда греки, собственно, и создавшие, и открывшие такой феномен, как философия, анализировали ее предмет, они не сомневались, что этот вид познания имеет три сферы своего применения: «логику», «физику» и «этику». Об этом догадались уже первые ученики Сократа, в их числе его первый биограф Ксенофонт (ок. 450–354 гг. до н. э.), а также Аристипп Киренский (ок. 435–355 гг. до н. э.) и основатели других сократических школ. А с того периода, когда руководство Академией перешло к ученику Платона, преемнику в должности схоларха Спевсиппа — Ксенократу (395–314 гг. до н. э.), логика, физика и этика уже были утверждены в Афинской школе как основные предметные области философии. Первые же стоики, которые были младшими современниками Ксенократа, считали эти три предметные области настолько тесно и необходимо взаимосвязанными, что сравнивали их с тремя компонентами органического тела
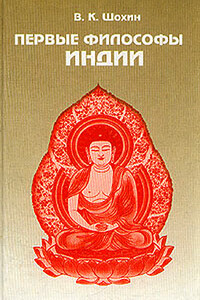
В книге впервые предпринята попытка представить историю индийской философии как историю творческих философских индивидуальностей. Опираясь преимущественно на памятники палийского канона буддистов и канонические тексты джайнов, автор реконструирует философские биографии и учения более двадцати основных персонажей реальной истории индийской мысли шраманской эпохи — эпохи первой переоценки всех ценностей и первой интеллектуальной революции Индии, датируемой VI–V вв. до н. э. Персоналия шраманской эпохи завершается философской биографией Будды, в котором автор видит своего рода итоговую фигуру первого периода всей индийской философии.
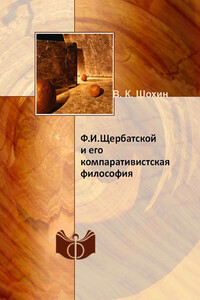
Книга посвящена восточно-западным философским штудиям Ф.И. Щербатского (1866–1942) на фоне достижений европейской сравнительной философии к началу XX в. Работы Щербатского исследуются в строго хронологическом порядке: от первой статьи «Логика в древней Индии» (1902) до последних комментариев к переводам буддийских текстов после опубликования «Буддийской логики» (1932). Среди основных компаративистских открытий Щербатского выделяются систематические параллели между буддийским идеализмом школы Дигнаги и критицизмом Канта, а также аналогии между «философией потока» у буддистов и А.
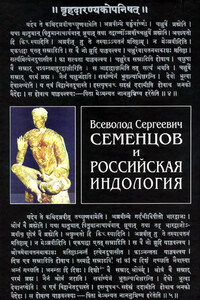
Всеволод Сергеевич Семенцов (1941–1986) — исследователь древнеиндийской литературы, религий, философии, средневекового индуизма, переводчик и истолкователь «Бхагавадгиты», оказал значительное влияние на формирование целого поколения индологов и стал одной из заметных фигур духовного возрождения России в эпоху государственного атеизма. В представляемый сборник вошли воспоминания о В.С. Семенцове коллег и учеников, светских и духовных лиц, а также индологические публикации по всем основным темам, так или иначе связанным с его научными интересами, начиная с ведийской поэзии и завершая диалогом религий.
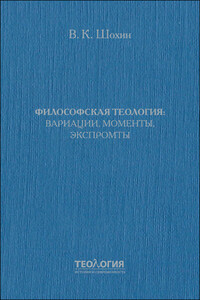
Новая книга В. К. Шохина, известного российского индолога и философа религии, одного из ведущих отечественных специалистов в области философии религии, может рассматриваться как завершающая часть трилогии по философской теологии (предыдущие монографии: «Философская теология: дизайнерские фасеты». М., 2016 и «Философская теология: канон и вариативность». СПб., 2018). На сей раз читатель имеет в руках собрание эссеистических текстов, распределяемых по нескольким разделам. В раздел «Методологика» вошли тексты, посвященные соотношению философской теологии с другими форматами рациональной теологии (аналитическая философия религии, естественная теология, фундаментальная теология) и осмыслению границ компетенций разума в христианской вере.
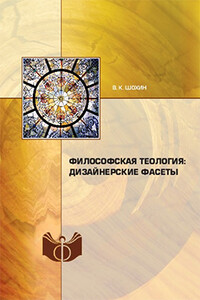
Монография представит авторское осмысление ряда параметров философской теологии как новой реальности в российском философском контексте. К ним относятся отличия светской рациональной теологии от традиционного церковного богословия, дифференциация различных типов дискурса в самой рациональной теологии, выявление интеркультурного измерения философской теологии, анализ современных классификаций обоснований существования Бога, теологический анализ новейшей атеистической аргументации и самого феномена атеизма, а также некоторые аспекты методологии библейской герменевтики.
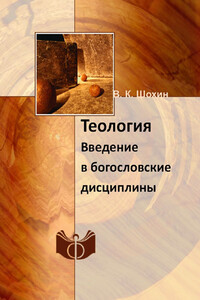
Настоящий курс рассчитан на ознакомление студентов-гуманитариев с начальными основами теологического знания, преподавание которого является новой реальностью в системе российского высшего образования. Основное содержание курса составляют лекции, посвященные логическому и историческому значению «теологии», выяснению отличия теологии от религиоведения, философии религии и религиозной философии, сложению ее современной дисциплинарной структуры и ее составляющим в виде дисциплин пропедевтических (христианская апологетика, библейская и патрологическая текстология), системообразующих (догматическое, нравственное (теотетика), литургическое, каноническое богословие, герменевтика Св.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.
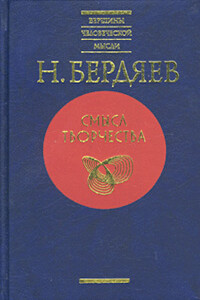
«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.
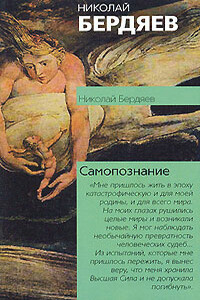
«… Книга эта мной давно задумана. Замысел книги мне представляется своеобразным. Книги, написанные о себе, очень эгоцентричны. В литературе „воспоминаний“ это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях и говорит больше всего о себе. Есть несколько типов книг, написанных о себе и своей жизни. Моя книга не принадлежит вполне ни к одному из этих типов. Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.