Имя и отчество - [51]
С собой нужно взять корытце и коловорот, а ведро или какую другую посуду под мед не надо. Не то чтобы примета и удачи не будет, а просто нехорошо. Я тогда, конечно, не понимал, почему нехорошо, ведро-то я бы первым долгом взял.
Раза три или четыре мы опускали корытце на землю, отходили в сторону и ждали новую пчелу, чтобы уточнить направление. Каждый раз ждать приходилось долго. Лежа в зарослях медвежьего уха, я до того успел угореть от какого-то махорочного жара, что не было сил сопротивляться склону горы, хотелось отдаться ему и скатиться вниз. Но в последний раз налетело сразу несколько пчел, эти даже не маскировали свой отлет, значит, дерево находилось уже близко.
Меня, помине, удивило, что дерево оказалось обыкновенной сухой осиной; оно не отличалось даже толщиной, не стояло как-нибудь отдельно, не пугало там как-нибудь страшными, раскоряченными сучьями и корнями, — и как раз потому оказалось неожиданным. Высоко, выше середины, сочилась рана, но дереву давно уже не больно, давно забыта та зима, когда лютый мороз градусов за пятьдесят длинно вспорол ствол. Потом там внутри, конечно, сразу же начало гнить. Осина в тайге слабая, гнуться она не умеет, падает прямая, как чуть что, уже мертвая, падает как бы спиной, руки на груди, — нет, чтобы судорожно еще цепляться или хотя бы уж рыть потом ими в земле, чуя тут бессмертие и ради него отказываясь от своего смертного тела. Жить ей с самого начала как-то не шибко охота, радуется робко и недолго, и все это кругам понимают и обижают ее; славят небо, выставляясь один против другого, а сами под землей в темноте молча едят ее корни. Но бывает — и тени богатых соседей мимо, и лето удалось крепкое, с солнечным ветром, и высушит, обдует снаружи и внутри, — тогда еще постоим, хоть не для себя.
Ствол гудел, но как-то так: рядом, особенно если ухо приложить, — сильно, а в двух шагах уже не слышно. На уровне раны — длинной черной щели — толклись пчелы — вверх, вниз и кругом. Местами к просочившейся наружу сладкой влаге прилипли бабочки-капустницы, — все дерево сверху донизу было полно медом.
Дядя Костя прослушал ствол со всех сторон, наметил точку и стал там сверлить. Когда по винту коловорота потек мед вместе с опилками, он вытесал пробку, выдернул коловорот и заткнул дыру. Потом из бересты свернул кулек и наполнил его медом. Дикий мед мне не понравился, он оказался совсем жидким, почти вода, мутным, цвета дыма в бутылке, и очень нечистым, в трухе и трупиках бесчисленных насекомых. (Теперь за стакан такого меда я бы отдал ведро домашнего.)
Когда на следующий день дядя Костя взял меня к себе на работу, я с удивлением там узнал, что у него есть много прозвищ, но все они до дикости ему не шли. Поэтому, наверное, он и не отзывался на них. Впрочем, в глаза-то его звали все-таки по имени, боялись, наверное. Его называли капиталистом и денежным мешком, промышленником, и все эдак на все лады, все с намеком на какое-то тайное его богатство, которое будто бы прячет и над которым трясется, не берет ни копейки; вот, мол, дурак-дурак, а умный — доски пилит, поди догадайся… Судя по голосу, все это была шутка, может быть, и слишком затянувшаяся.
Но оказывается, как я уже позже узнал, у дяди Кости и на самом деле были когда-то большие деньги. Дело вот какое. Его отец, кумандинец, до революции пастух какого-то алтайского зайсана, а после — основатель мараловодческого хозяйства, умирая, оставил двум сыновьям восемьдесят тысяч рублей денег. Отец хоть и был основателем хозяйства, но не был никогда никаким руководителем, а самым простым рабочим — готовил корм, латал километры загородки, пилил панты. Основателем же считали именно его, и это правильно, потому что он один без всякой помощи согнал в узкое ущелье с тупиком впереди табунок диких маралов, выход же назад перекрыл высокой жердевой загородкой. Затем он спустился в наш городок и, мучительно преодолевая незнание русского языка, попытался втолковать, как можно теперь добывать панты, не убивая зверей. Как раз в те, двадцатые годы маралы у нас начали сильно убывать из-за громкой славы пантов. Наконец нашлась одна русская женщина, немного звавшая его редкий алтайский диалект, она помогла ему. Потом она, кстати, стала его женой, матерью Кости и Костиного брата. Жили они счастливо, несмотря на скупость отца. Мать как приехала на новое мараловодческое хозяйство, то есть пока еще на совершенно пустое место, с одной швейной машинкой, так с этой же машинкой и с двумя сыновьями вернулась в город, когда отец умер. При жизни отец наотрез отказывался тратить зарплату, он хорошо обходился и без денег. Кажется, в какой-то злонесчастный момент его добрую мудрость, закаленную только в родственной любви ко всему живому, смертельно поразила необъяснимая возможность в обмен на несколько радужных бумажек получить прекрасное новенькое седло и великолепное ружье с годовым запасом порока… Так вот, умирая, он всю накопленную за многие годы сумму разделил пополам и передал сыновьям, завещая беречь на черный день. Старший сын, Костя, пошел не в отца и как-то даже безобразно быстро расправился с огромной суммой; куда-то ездил, где-то сильно и опасно жил, неудачно где-то женился и вернулся с осунувшимся, как бы против сильного ветра, лицом — растворить рот и вымолвить слово было ему в муку. Зато теперь, сам не закончивший школу и не выучившийся никакому ремеслу, он тяжело, со всей силой нерастраченного родственного чувства насел на четырнадцатилетнего брата — решил сделать из него человека. Готовил даже вместе с ним уроки и вообще. В первый же день начавшейся войны маленький брат пришел в военкомат и спросил, наступил ли уже черный день. Получив от высокого начальства ответ, что черный день, без всякого сомнения, наступил, он выложил из школьного портфеля свои нетронутые тысячи и положил на стол. Военкоматское начальство потом его немножко провожало и видело, как от ограды отделился старший брат и как они, обнявшись, пошли домой.

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
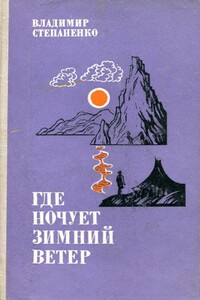
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.
