Имя и отчество - [43]
Так что два последних контейнера Дима красил уже не торопясь. Вчерашние подсохшие ждали окончательной операции, он и не надеялся взяться за них сегодня, но до четырех оставалось еще время — принялся по трафарету наводить на них номера. Это была приятная работа: мерзкая гриппозная пыль, из-за которой тяжелела голова, рассеивалась, пистолет не скользил в руках мокрым обмылком, люди не обходили далеко стороной, белила после олифы ничем не пахли и уже тем успокаивали нервы, и контейнеры с белыми по красному номерами, штампами и датой выглядели теперь совсем с иголочки. Сколько рук прикасалось тут к каждому сантиметру, сколько молотков, электропил, электродов, рубанков и опять молотков, а твое прикосновение — все ж таки последнее.
Ну вот — все…
Теперь, если бы не уходить, наступили б самые лучшие минуты. На дню, может быть, и самые лучшие. Из-за получаса этого до гудка и любил Дима свою грязную работу. Ворота бы, главные, со стороны депо, растворились от толчка, и, пятясь, подскользнул бы к нему сюда порожний состав, и машинист издалека, из окошечка своего, ловил бы взмах его руки. И рабочие из ремонтного, слесарного и деревообрабатывающего цехов по пути в душевую задерживались бы и смотрели… Потом он в числе последних спешил бы туда. А мог бы и не спешить — все равно лучшее место в душевой оставили бы ему…
В просторной душевой, еще не нагретой многолюдным мытьем, он пустил горячую воду, самую горячую, и минуту, две минуты стоял под струей, бессмысленно радостный. Самая эта радость, когда бессмысленна. Пар намочил кафель стен, согрел цементный пол и затуманил окна. Вода и мыло плохо брали сурик, но у него тут припасена была бутылочка с керосином; отмыв руки, он набрал в горсть керосин и плеснул в лицо, теперь — мылом, мылом!
Еще отхаркивалось красным, но как будто и дышалось уже легче.
Он надел вельветовые, протертые на коленях штаны, замшевую заношенную куртку и, дуя на расческу, причесался перед зеркалом. То ли это после мытья, то ли зеркало, попорченное сыростью, врало, но сморщил он лицо и расправил — лицо сделалось немного другим. «Гоношенков? Знаю. А что?» — такое было лицо.
Завод от вокзала с его платформами, буфетами, столовой, киосками и старинным полузамком туалета отделяло целое поле железнодорожных путей. Ни один состав сейчас это поле не загромождал, и можно было не переться к далекому переходному мосту…
По характерному шуму в буфетном отделении столовой Дима понял, что там дают пиво. Но вроде бы как не хотелось пить. Он все же заглянул. Народу там оказалось невпролаз, и тотчас ему очень захотелось хотя бы кружечку. Он отмерил на глаз: явно стоять не меньше часа — отошел. В столовой ему выдали на талон две бутылки молока; Дима получал молоко из-за вредности своей работы — спецпаек.
От площади за вокзалом начинался город. Вся угретая огромной солнечной стеной вокзала площадь млела и жарилась. Здесь же были конечные остановки всех автобусов — и от них исходил жар, народ из автобусов вываливался вареный. Кое-где асфальт лопнул, и там он то ли чернел, то ли блестел, расплавленный. Площадь наклонить — и потекло бы с нее.
Вокзал пришелся на городскую окраину, и хоть поднимались большие дома по окраинам же, но по другим. Вся здешняя рабочая часть города с вокзалом, заводом, депо, с базами райпромкомбината лежала плоско, широко, со слоистым дымком на горизонте.
Подождал Дима минут двадцать, пока его автобус подпылил. В пятом часу народ только начинал прибавляться, но все равно не помнил Дима, чтоб ехал он когда сидя. Стиснут он был и сейчас. Первую остановку автобус всегда лихо проплывал, и всегда в закрытую дверь здесь барабанили — ну, это те, кто ленился идти на конечную.
И ровно в пять Дима уже спускался по лестнице подвального помещения кинотеатра «Сатурн». В этом крыле здания — мимо трех больших выходных дверей пройти, пристройку с рекламой пошивочной мастерской обогнуть — помещались службы: по коридору темному направо — директор, бухгалтерия, и тут же еще одной лестницей вниз — в столярку, потом в тесную художественную мастерскую.
Никто ему на лестнице и в коридоре не встретился. Просто случилась такая минута, что никто, а мог бы, например, директор выглянуть, сказать: «А, Дима! Зайди-ка на минуту», мог бы столяр выглянуть, сказать… Никто не выглянул, не сказал. Запустили как раз на второй сеанс, во всем здании было тихо, почти тихо; из зала ударяло иногда музыкой, еще в фойе техничка тетя Поля передвигала стулья.
Дима спустился в котельную, поставил там молочные бутылки на холодный цементный пол. И тут над ним стукнула дверь столярки, как захлопнулась ловушка. Это столяр вышел на лестницу покурить. Столяр повернулся на шаги, навалился на перила и давящими, как всегда вот такими, не меняющимися ни в каком чувстве глазами уставился. Если бы не фартук, так за начальство бы его принять.
Дима прошел мимо, не поднимая глаза, чтоб тот не задержал его разговором.
— Гриву-то отрастил, когда срежешь? — все-таки настиг его столяр.
Дима уставился на его ботинки, один нормальный, другой ортопедический, чудовищный, в сложных шнурах, скрывающий, кажется, копыто.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
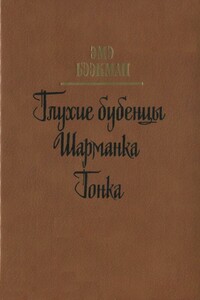
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.