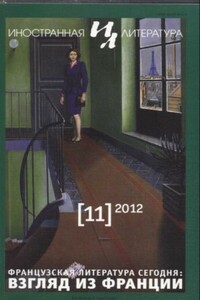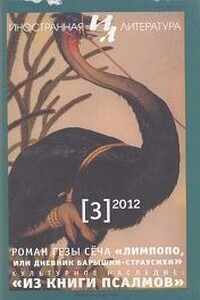Император Запада - [3]
Когда мы наконец расстались, последние исчезли паруса с совсем уже ночного моря, обретшего навеки винный цвет, поскольку греки так о нем сказали. Усталой поступью он начал подниматься по узкой тропке, что вилась по склону, ведя к его невзрачному жилищу, на верх скалы, носящей имя Монтероза; комичным жестом он приподнимал заботливо края изношенной одежды, вдруг останавливался дух перевести, упрямо глядя в землю и внимая тому, что нес в себе. Его сандалии клубы вздымали красноватой пыли, ложившейся на свежие следы. Из виду скрывшееся солнце освещало лишь половину островерхого Стромболи: как золото горящий треугольник на темном фоне, ровном, монолитном; на пурпуре сверканье диадемы. Вот все погасло. Где-то заревел осел; и стала ночь.
В начале самом боевой карьеры судьба забросила меня на острова Липари. Был я в ту пору молод и неистов, и мир, казалось, был специально сотворен, чтобы я мог в нем развернуть свой дерзкий пыл; я вел себя как нравный жеребец; моя нежданно-новая свобода мне виделась в отваге попирать все мыслимые или нет преграды. Отец мой был отважный Гауденций, стоявший во главе всех конных войск на скифских территориях; высокой отцовской должности я был обязан нелегким детством, проведенным в заточенье златых темниц, а также норовом капризным донельзя избалованного чада, живущего на волосок от смерти. Отец мой заключал союзы и брал на службу варваров коварных, которых в подчиненье не сдержать одной лишь силой закаленной стали. И слово нерушимое свое он подкреплял, заложником меня сдавая тем, с кем был в ту пору дружен. Дитя властителя, воспитывался я с детьми владык, пока отец мой слову верен был; нарушь его он, и в мгновенье ока я оказался бы изрублен на куски. Так жизнь моя всецело зависела от крепости отцовских обещаний. Мне было лет совсем еще немного, когда закончилось правленье Стилихона[4], и я был отдан готам, что в ту пору стояли грозно у ворот Равенны. Алариха [5], царя вестготов, я не знал: когда он Римом завладел, я жил в Паннонии, где двор, далекий от военных рубежей, его детей был занят воспитаньем. Всегда далекий призрачный герой, недосягаемый для копий, стрел и взоров, неуязвимый, но разящий беспощадно, «второй Давид», как шла о нем молва, был для меня отцом — так говорило сердце, и я молился за него, как сын, с его родными бок о бок сыновьями. Исполненный восторга, ужасом объятый, я жаждал, чтобы, грозный и зловещий, раздался звук его трубы, которую именовали в Риме «хриплым рогом», и чтоб широким эхом он разнесся над замершим холмом Капитолийским. Кто знает, может, и мои молитвы утяжелили чашу весов, на которых в надмирных высях измерялись пороки Рима, и не только чашу, но и тяжелую десницу варвара, что Рим карала… Их поэты, недавно приобщившиеся к культуре и к благородным языкам, еще не отошедшие от потрясений этого открытья, преподавали мне изящную словесность; арианские епископы, посвящавшие нас в премудрости закона Божия, твердили мне об отраженном свете, от Сына исходящем, об изначальном величии и ни с чем не соизмеримой древности Отца, об извечной первичности жеста по отношению к руке, о первичности Ничто по отношению к Слову, о всемогуществе пространства над материальностью деревянного креста. Я не слишком был склонен им верить, поскольку отец мой Гауденций изначально обрек меня на казнь, то и дело откладываемую, но все же неотвратимую, а отец детей, называемых мною братьями, сверкающий в лучах славы под незримыми небесами, пребывающий в далеких землях, которые он опустошал, в любой момент мог свести мое существование к тому Ничто, с которого все начиналось. Сегодня я служу Империи; я принял символ Никеи[6]; я пытаюсь заставить себя верить, что Отец и Сын существуют единовременно, что они едины в проявлениях воли, неразделимы в вечности и в страдании и сделаны из одного теста. Я охотно предоставляю варварам искать доводы разума, которые не более чем ересь.
Я был еще подростком, когда новый хитроумный маневр Гауденция вынудил меня покинуть готский двор; меня отдали гуннам, и я снова оказался при дворе, но менее блестящем на сей раз. Там не было епископов, поэтов; зато им я обязан тем, что брею бороду и пить умею стойко, покуда замертво на землю не свалюсь; и тем еще, что страстно в мир гляжу. О гуннах мнение бытует, что они — продукт сношенья скифских ведьм и духов преисподни. Однако это ложь: они умеют плакать, горюют о былом и чтут своих умерших; богатством не кичатся и сердцем нехитры; желаньям смутным подчиняются беспечно, но сытости не ведают и падки на блеск и мишуру, а также на чужое. Их девушки без удержу смеются, а главари — напыщенны, чванливы. И наконец, они боятся смерти.
Когда вернулся я, мне было девятнадцать. Я поступил на службу к императору Гонорию[7], точнее, к сестре его Плацидии[8], которая вершила все дела. Был я недурно образован, в придачу отменный наездник и сын военачальника; я хорошо знал варваров; мне стали доверять ответственные задания. Сицилия платила плохо дань, пираты перехватывали редкие суда, груженные зерном и бурдюками с вином и маслом, которые она порою отправляла в пределы Рима. Из охраняющей Равенну эскадры несколько трирем были спешно снаряжены к острову Липари с тем, чтобы встать на рейд в укромной бухте и следить оттуда за недальними сицилийскими берегами. Несмотря на мой юный возраст, я получил в этой операции важную роль и высший чин, которыми очень гордился. После нескольких победоносных абордажей мы одержали верх над пиратами всех мастей; однако мы продолжали стоять у берегов Липари в полной боевой готовности, но без дела, олицетворяя собой бесполезную мощь старой империи. Синева неба расслабляла. Я сполна наслаждался дивным климатом, которого в детстве не знавал; и, как это бывает в юности, по-глупому торжествовал, что открыл этот дикий, исполненный неги уголок, сотворенный небом будто специально для меня; я радовался, что умею оценить его прелести и красоты, как если бы мое наслаждение являлось залогом силы моего характера: только для меня цвели в садах смоковницы, только ради меня плоды опунции растопыривали свои иголки, чтобы потом безропотно подставить сочную плоть; только для меня смеялись дочки рыбаков. Густое и черное местное вино, горячее и пылкое тело юной Онории, что делила со мною ложе, постепенно насытили мой неуемный аппетит. За пресыщением явилось беспокойство. И я решил тогда найти

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях.Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.
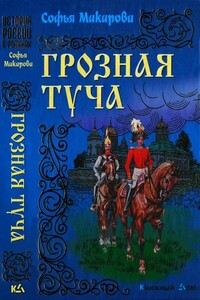
Софья Макарова (1834–1887) — русская писательница и педагог, автор нескольких исторических повестей и около тридцати сборников рассказов для детей. Ее роман «Грозная туча» (1886) последний раз был издан в Санкт-Петербурге в 1912 году (7-е издание) к 100-летию Бородинской битвы.Роман посвящен судьбоносным событиям и тяжелым испытаниям, выпавшим на долю России в 1812 году, когда грозной тучей нависла над Отечеством армия Наполеона. Оригинально задуманная и изящно воплощенная автором в образы система героев позволяет читателю взглянуть на ту далекую войну с двух сторон — французской и русской.
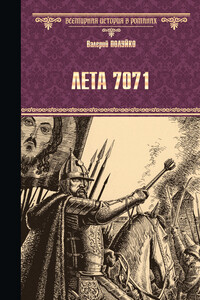
«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой… Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира».В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.
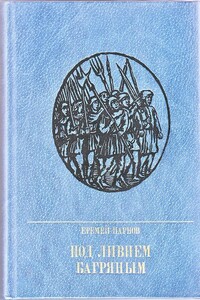
Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
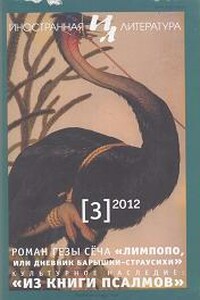
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
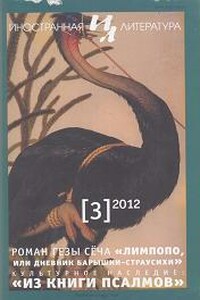
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
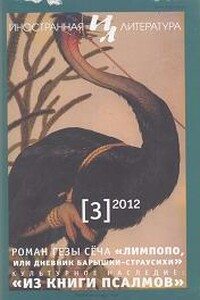
В романе «Лимпопо» — дневнике барышни-страусихи, переведенном на язык homo sapiens и опубликованном Гезой Сёчем — мы попадаем на страусиную ферму, расположенную «где-то в Восточной Европе», обитатели которой хотят понять, почему им так неуютно в неплохо отапливаемых вольерах фермы. Почему по ночам им слышится зов иной родины, иного бытия, иного континента, обещающего свободу? Может ли страус научиться летать, раз уж природой ему даны крылья? И может ли он сбежать? И куда? И что вообще означает полет?Не правда ли, знакомые вопросы? Помнится, о такой попытке избавиться от неволи нам рассказывал Джордж Оруэлл в «Скотном дворе».