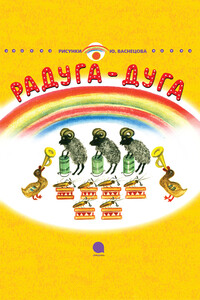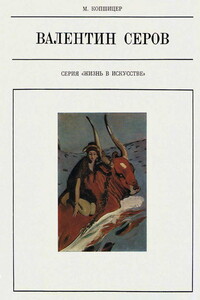Илья Репин - [57]
Но прошло два дня и, под влиянием окружающих, в особенности своей дочери Веры, Илья Ефимович круто переменил свое отношение к плану: „Нет, нет, нет“… Как я ни возражал, он уперся на своем: „Всю книгу нужно переделывать“.
Дело в том, что в руках у Ильи Ефимовича — некорректированные оттиски этой книги, он же воображает, что это — книга в окончательном виде, и естественно раздражается, встречая опечатки, которых в окончательной редакции нет… Я не хотел раздражать Илью Ефимовича и потому прекратил разговор… Я уверен, что это временный приступ „великого гнева“. Надеюсь, что неудача моей миссии всецело зависит от неприязни ко мне, которую питает его семья. Уверен, что, например, И. Я. Гинцбург (которого он ждет с нетерпением) — будет гораздо удачливей меня»[190].
Чуковский все сильнее ощущает неприязнь семьи Репина.
«Юрий и Вера, — подчеркивает он в своей дневниковой записи, — как подпольные, озлобленные, темные, неудачливые люди предпочитают обо всем думать плохо, относиться ко всему подозрительно, верить явным клеветам и небылицам… Самое неприятное то, что влияние этих людей сказалось и на отношении Репина ко мне…
В первое время он согласился напечатать свои „Воспоминания“. Теперь его свите померещился здесь какой-то подвох, и все они стали напевать, что, исправляя его книгу, я будто бы погубил ее. Со всякими обиняками и учтивостями он сегодня намекнул мне на это. Я напомнил ему, что моя работа происходила у него на глазах, что он неизменно даже преувеличенно хвалил ее, восхищался моими приемами, что на его интонации я никогда не покушался, что я сохранил все своеобразие его языка. Но он упорно, хотя и чрезвычайно учтиво, отказывал: Нет, этой книге не быть. Ее нужно напечатать только через 10 лет после моей смерти.
Так как корректура его экземпляра весьма несовершенна, он считает, что все ошибки наборщиков принадлежат мне…
Он упорно стремился прекратить разговор всякими любезностями и похвалами: „О, вы дивный маэстро“ и проч.
— Заговорили о Сергееве-Ценском. „О, это талантище. Как жаль, что я не успел написать его портрета. Замечательный язык, оригинальный ум“[191].
Чуковский, разумеется, интересовался тем, какие картины создал Репин за эти годы. Об этом он пишет Нерадовскому из Куоккалы:
„Новых вещей у него много. О них при свидании. Среди них наиболее заметное полотно: местный священник в алтаре на коленях (портрет, масло)“[192].
В другом письме к Нерадовскому Чуковский подробно перечисляет картины Репина, висящие в „Пенатах“. Перечень картин, которые он увидел в столовой репинского дома, Чуковский заносит и в свой Дневник. Там же — приметы тогдашнего репинского быта:
„Коновязь цела старая — теперь уже лошадей так мало, что дорогу не заезживают.
Голубятня[193], где Репин спит с июня по август и теперь.
Скуфейка высокая — парусиновая вышитая — голова мерзнет с тех пор, как был голод…
Уплотнился — в одной комнате и кровать, и обеденный стол, и кабинет, и отчасти мастерская. Бывшая спальня превращена в мастерскую“.
Накануне отъезда из Куоккалы Чуковский записывает свой последний разговор с Репиным:
„Я сказал Илье Ефимовичу, что завтра хочу уехать и прошу его рассказать мне подробнее о своем житье-бытье. Ну что же рассказывать! Очень скучно здесь жилось. Самое лучшее было время, когда была жива Наталья Борисовна, когда Вы тут жили… Тогда здесь было много художников и литераторов. А потом никого“[194].
Через несколько дней после отъезда из Куоккалы, уже в Хельсинки, Чуковский получил письмо от Репина. Тон письма такой, словно никакой размолвки и не было.
„…Вот радость: что вы заедете ко мне? — спрашивает Репин. — Неужели проскочите?.. А сколько было вопросов!! Заезжайте. Теперь ведь уже в последний“[195].
Репин был прав — их свидание и в самом деле оказалось последним. Чуковский тотчас ответил на репинское письмо:
„Нет, нет, дорогой Илья Ефимович, в Куоккала я больше не ездок!“ Чемоданы мои уложены, билет куплен, сегодня я уезжаю в Россию. Жаль, что я так поздно узнал о Вашем желании снова повидаться со мною. Я, конечно, изменил бы свой маршрут. Теперь нельзя.
В Куоккале мне было неуютно. Терпеть не могу шептунов, трусливо клевещущих у меня за спиною. Бабьи дрязги вызывают во мне тошноту. Я надеюсь, что скоро мы увидимся с Вами в Петербурге при других обстоятельствах. Пойдем по музеям, побываем в Эрмитаже, в опере… Здесь я нашел истинный клад: мои письма, бумаги, картины, которые считал безвозвратно утерянными. Особенно много Ваших писем; я прочитал их подряд — какие они юношеские, мажорные, огненные! Также сохранились корректуры Ваших „Воспоминаний“, множество фотографических] Ваших портретов и проч. Цел также и мой портрет Вашей работы (фотографический] снимок, корректированный Вашей рукой), целы и письма Натальи Борисовны. Спасибо добрым людям, сохранившим для меня это добро! Много фотографий моих детей, все мои дневники, письма Льва Толстого, Куприна, Мережковского, Блока, Леонида Андреева, Валерия Брюсова — все цело, все вернулось ко мне. Сохранился и Ваш фотографический портрет, подаренный Вами Марье Борисовне[196]в день ее именин. Все это я вновь рассортировал, разобрал

Книгу Корнея Ивановича Чуковского `От двух до пяти` будут читать и перечитывать, пока существует род человеческий, ибо книга эта о душе ребенка. Чуковский едва ли не первым применил психологические методы в изучении языка, мышления и поэтического творчества детей, без устали доказывая, что детство - вовсе не какая-то `непристойная болезнь, от которой ребенка необходимо лечить`. При этом `От двух до пяти` - не просто антология увлекательных рассказов и детских курьезов, это веселый, талантливый и, пожалуй,единственный в своем роле учебник детоведения, заслуженно вошедший в золотой фонд детской психологии и педагогики.
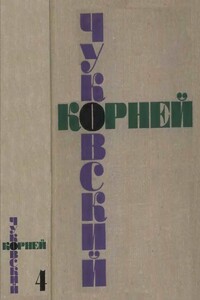
«Мастерство Некрасова» — фундаментальный труд Корнея Чуковского, относящийся к памятникам советского литературоведения. Монография, над которой Чуковский работал несколько десятилетий, исследует творчество русского литератора XIX века Николая Алексеевича Некрасова и рассказывает о месте поэта в русской литературе. Отдельной книгой труд впервые издан в 1952 году. В 1962 году за книгу «Мастерство Некрасова» Корней Чуковский удостоен Ленинской премии.

«Серебряный герб» — автобиографическая повесть, рассказывающая о детстве и отрочестве Коли Корнейчукова (настоящее имя К. Чуковского). Книга читается на одном дыхании. В ней присутствует и свойственная Чуковскому ирония и особый стиль изложения, который по настоящему трогает за душу, заставляя возвращаться в своё детство.

Семейная библиотека — серия отличных детских книг с невероятными историями, сказочными повестями и рассказами. В девятую книгу серии вошли три сказочные повести:М. Фадеевой и А. Смирнова «Приключения Петрушки»К. Чуковского «Доктор Айболит»Ю. Олеши «Три толстяка».

Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.

Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В ноябре 1917 года солдаты избрали Александра Тодорского командиром корпуса. Через год, находясь на партийной и советской работе в родном Весьегонске, он написал книгу «Год – с винтовкой и плугом», получившую высокую оценку В. И. Ленина. Яркой страницей в биографию Тодорского вошла гражданская война. Вступив в 1919 году добровольцем в Красную Армию, он участвует в разгроме деникинцев на Дону, командует бригадой, разбившей антисоветские банды в Азербайджане, помогает положить конец дашнакской авантюре в Армении и выступлениям басмачей в Фергане.
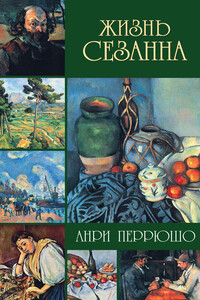
Писатель Анри Перрюшо, известный своими монографиями о жизни и творчестве французских художников-импрессионистов, удачно сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с достоверностью фактов, пытаясь понять особенности творчества живописцев и эпохи. В своей монографии о знаменитом художнике Поле Сезанне автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования. В книге использованы уникальные документы, воспоминания современников, письма.
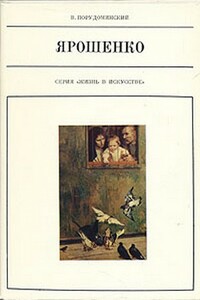
Книга посвящена одному из популярных художников-передвижников — Н. А. Ярошенко, автору широко известной картины «Всюду жизнь». Особое место уделяется «кружку» Ярошенко, сыгравшему значительную роль среди прогрессивной творческой интеллигенции 70–80-х годов прошлого века.
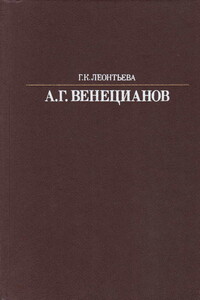
Книга посвящена замечательному живописцу первой половины XIX в. Первым из русских художников Венецианов сделал героем своих произведений народ. Им создана новая педагогическая система обучения живописи. Судьба Венецианова прослежена на широком фоне общественной и литературно-художественной жизни России того времени.