Иисус. Жизнеописание Христа. От исторической реальности к священной тайне - [5]
Он также должен освободиться от априорных положений рационалистической утопии. Это, в особенности при изучении жизни Иисуса, означает быть открытым для таинственного и сверхъестественного. Например, отрицать возможность чудес и отрицать их, считая просто детскими вымыслами, было бы проявлением не исторической науки, а философских предрассудков. «Если в чуде есть что-то реальное, то моя книга всего лишь сплетение ошибок», — наивно признавал Эрнест Ренан. То есть он оставался в плену у иллюзий своего времени — веры в безграничный прогресс, отрицания сверхъестественного, убеждения, что неизменные законы природы не могут быть нарушены вмешательством божества. Бультман говорил то же самое: «Нельзя пользоваться электрическим светом и радиоаппаратами, в случае болезни требовать себе средства современной медицины и одновременно верить в мир духов и в чудеса Нового Завета». Откуда это желание сразу отвергать то, чего не может объяснить разум?
Необыкновенные явления, выходящие за рамки естественного, существуют и вызывают интерес у ученых. Таковы передача мыслей, которую не удается объяснить с помощью известных нам законов физики; внезапные необъяснимые исцеления; видения; физические проявления мистических явлений; нетленность тел многих святых; надежно засвидетельствованные евхаристические чудеса. Некоторые из этих явлений не может понять даже парапсихология. Зачем отбрасывать их в сторону одним движением ладони? Некоторые известные ученые в то же время искренне верующие люди. Их вера не создает помех, когда они делают выводы из своих научных исследований.
Конечно, каждый рассказ нацелен на определенный круг читателей. Невозможно объективное изложение «голых» фактов, в котором совершенно не отражен взгляд рассказчика на события. Но подход изнутри, не превращаясь в провозглашение веры, позволяет, оставаясь на строго исторической точке зрения, лучше оценить логические структуры и взаимосвязи элементов видения, которое для историка остается чем-то внешним и отстраненным от него самого. Разве историки и экзегеты, имеющие глубокие корни в еврейской религии, например Давид Флуссер, Шалом бен-Хорин, Якоб Нойснер или Андре Шураки, не лучше остальных поняли тонкие связи, которые соединяют Ветхий и Новый Заветы?
Разумеется, историк не может высказаться определенно по поводу чудес или Воскресения Христа, не может он и взглянуть на Воскресение с точки зрения веры, не выходя за пределы своей науки. Но он имеет право задать себе вопрос о глубинном смысле какого-либо факта, о намерении, лежавшем в основе какого-либо события или какой-либо беседы. Он должен чувствовать «душу» текстов, их внутреннее строение, цель, к которой они направлены. Этот методологический подход, разработанный в 1979 г. Беном Франклином Мейером, различает «внешнее» и «внутреннее» и, таким образом, выходит за пределы историко-критического анализа в обычном смысле этого термина>{13}. Историк, например, не может сказать, что Иисус — Сын Бога, однако может с помощью своих собственных методов доказать, что Иисус всегда считал себя Сыном Божьим. Это хорошо видно и в Евангелии от Иоанна, и в синоптических Евангелиях. Доминиканец Франсуа Дрейфус в своей работе «Знали ли Иисус, что был Богом?», которая вышла в свет в 1984 году, открыл путь для плодотворной работы в этом направлении>{14}.
Нужно повторить: важно оставаться открытым для тайны и избегать пристрастного редактирования. Когда киножурналисты Жерар Мордилла и Жером Приёр признались, что целью их серии расследований, которая была показана на телеканале Arte, было разоблачение мошеннических выдумок, обманов и предательства Церкви, короче говоря, что они желали взорвать обман, на котором основано христианство, считая его антисемитским и жестоким по природе, насколько можно было им верить?>{15} Можно ли при таком расположении ума вынести справедливое, проницательное и не резкое суждение?>{16} Историческая честность плохо сочетается с воинственной антирелигиозностью, — впрочем, с устаревшим фундаментализмом она сочетается так же плохо.
При строгом соблюдении границ между этими двумя областями можно получить рациональный, а не рационалистический подход к личности основателя единственной религии, которая желает быть воплощенной. Трудно сразу уяснить себе, каким был Иисус. Поэтому следует искать, насколько это возможно, в оставленных им следах тесную связь его бытия и его послания, «особый отпечаток, делавший его единственным в своем роде»>{17}. Агностик Марк Блох говорил: «Христианство — религия историков»>{18}. Перекличка с этим утверждением слышна в речи Бенедикта XVI о Слове Божием, произнесенной перед римским синодом 14 октября 2008 г.: «Исторический факт — основополагающее начало среди аспектов веры. История спасения — не миф, а историческая правда, именно поэтому ее нужно изучать методами, которые применяются в серьезных исторических исследованиях».
Значит, работа историка — обнаруживать пригодные для использования источники, делать среди них выбор, убеждаться в их подлинности и судить как можно честнее о том, насколько они достоверны, особенно когда речь идет о том, чтобы описать жизнь человека, родившегося две тысячи лет назад. Великий английский экзегет Чарльз Гарольд Додд говорил: «Догадка, высказанная по поводу информации, — законный инструмент историка. А для историка Античности она часто бывает необходимым инструментом»
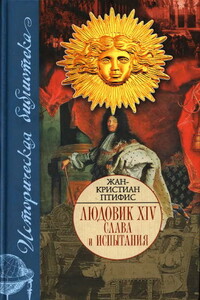
Царствование «короля-солнца» Людовика XIV (1643—1715) стало апогеем абсолютизма во Франции. В его эпоху страна вышла на первое место на международной арене, снова превратившись в великую державу. Были одержаны знаменательные победы на суше и на море. После более чем вековой борьбы Франция одолела Испанию и вошла в число крупнейших колониальных империй Европы. Политика короля способствовала также распаду Священной Римской империи. Впрочем, французское королевство в это время лидировало не только в политике.

Жан-Кристиан Птифис – французский ученый, исследователь, специалист по истории Франции XVII века, автор ряда ярких биографий исторических лиц времен Людовика XIV. Его жизнеописание д'Артаньяна – плод многолетних архивных изысканий – удостоено премии Французской академии.Согласно документально подтвержденным фактам жизнь реального д'Артаньяна была наполнена не менее опасными приключениями, чем те, что описаны в блистательных романах Александра Дюма.
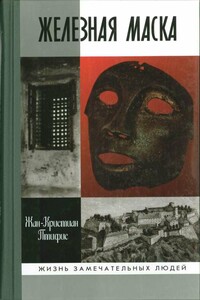
Загадка Железной маски — таинственного узника Бастилии, которому под страхом смерти запрещалось показывать кому бы то ни было свое лицо и называть свое подлинное имя, — вот уже более трех столетий не дает покоя историкам, романистам и просто любителям истории. Ему посвящались серьезные исследования и легкомысленные романы, пьесы и кинофильмы. По воле великого Дюма его освобождали из заточения мушкетеры во главе с неподражаемым д'Артаньяном; его образ запечатлен в нашей памяти благодаря великолепным кинофильмам, в которых в разное время блистали Дуглас Фэрбенкс, Жан Маре и (в новейшей киноверсии «Человека в железной маске») Леонардо Ди Каприо…Книга, предлагаемая вниманию читателей, на сегодняшний день представляет собой наиболее полное и авторитетное исследование этой исторической загадки.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.