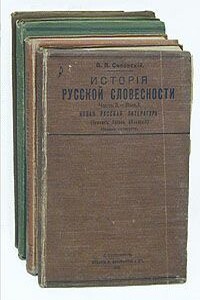Игра в классики. Русская проза XIX–XX веков - [2]
Рассказ трехчастен: ясному аполлоническому «реалистическому» дню противополагается «романтическая» ночь, а эпизод у костра диалектически снимает это противопоставление в зыбком и двоящемся слиянии реальности/жути, веры/неверия, света (огня костра)/тьмы. И духовный мир русских крестьянских детей воспринят тоже как двойственный: и прекрасный, и ограниченный, убогий.
Так что «реализм» здесь лишь один из возможных модусов, меняющихся ракурсов, сам по себе он недостаточен, чтобы исчерпать бездонную реальность, осваиваемую диалектически. Поэтому Тургенев вовсе не принципиален и в своем «реалистическом» модусе.
Тургенев: старо-новая поэтика. Продемонстрируем это на отрывке, служащем в рассказе «увертюрой»:
Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело, величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кроткости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба <…>[2].
У романтиков, да и у Карамзина увертюрные отрывки – обычная вещь. «Увертюра» может быть посвящена пейзажу, истории или этнографии, или их сочетаниям, например историческому пейзажу, как в «Бедной Лизе». Но всегда главная роль ее – заявить о модальностях, которые будут продемонстрированы на других уровнях рассказа.
Основная модальность в данном отрывке – типизация: «один из тех дней, которые…» Это клише считалось ритуальной формулой Бальзака, оно было характерно для предыдущего, диккенсо-гоголевского этапа литературы. Типизация опирается на уже имеющиеся знания, что по определению противоречит непосредственному восприятию.
В описании Тургенева день характеризован не столько через его непосредственно воспринятые собственные черты, сколько через множественное отрицание, что также не является признаком «чистого» восприятия, реагирующего на то, что есть. Напротив, перед нами энциклопедия того, чего нет: «утренняя заря не пылает пожаром…»; «солнце – не огнистое, как во время знойной засухи…»; «не тускло-багровое, как перед бурей…»; «нигде не темнеет, не густеет гроза». Это прием «отрицательного ландшафта», который Михаил Вайскопф находит у Гоголя[3].
Повествование соскальзывает в «будущее время» реитерации, ожидаемости: «мирно всплывает… свежо просияет и погрузится» – и успокаивается вновь на типичности: «обыкновенно появляются и облака…» Изображается типичный день, и лишь в начале следующего абзаца автор переходит от его описания к единичному событию: «В такой точно день…»
Легкая персонификация с почтительной оценочностью тоже присутствует: солнце – «приветно лучезарное»; поднимается оно «весело и величаво, словно взлетая», «могучее светило». В подтексте этих стершихся метафор – привычное культурное представление об Аполлоне и его колеснице. И наконец, «тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем (небе) вечерняя звезда». Это мы ставим свечку кому надлежит – с благодарностью за то, что этот почти классический мир, такой устроенный, спокойный и приветный, кроток, как пастушок Венецианова: «…на всем лежит печать какой-то трогательной кротости». В нем и «ветер разгоняет зной», и даже вихри-круговороты потеряли свою фольклорную демоничность, гуляя по полям, будто барышни.
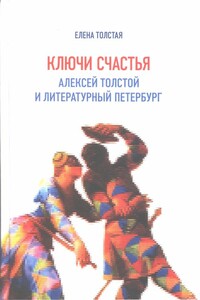
Настоящее исследование Е. Толстой «Ключи счастья» посвящено малоизвестному раннему периоду творческой биографии Алексея Николаевича Толстого, оказавшему глубокое влияние на все его последующее творчество. Это годы, проведенные в Париже и Петербурге, в общении с Гумилевым, Волошиным, Кузминым, это участие в театральных экспериментах Мейерхольда, в журнале «Аполлон», в работе артистического кабаре «Бродячая собака». В книге также рассматриваются сюжеты и ситуации, связанные с женой Толстого в 1907–1914 годах — художницей-авангардисткой Софьей Дымшиц.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.