Игра слов - [5]
Слова складывались как попало, следил я больше за переполняющими меня стихиями-эмоциями, чем за холодным смыслом сцепляющихся между собой строк.
Играл – с душою и от души.
Вот и получалось, по предельно точному выражению Вещевайлова, «говно, изредка разбавляемое удачными строчками и даже четверостишиями».
Так, в сущности, и было.
Иногда слова самопроизвольно удачно сцеплялись, но я как личность, увы, не имел к этим удачам ни малейшего отношения.
Само по себе складывалось.
У меня вообще такое ощущение, что удачные стихи получаются тогда, когда мозг у автора отключен или вообще отсутствует.
Или когда автор в усмерть пьян либо обдолбан.
Кто-то тупо рукой водит.
А ты – типа медиума, ага.
То есть существа вроде и уважаемого.
Но все одно – марионетки, только и умеющей, что делать красивые театральные жесты.
Дерьмо собачье, короче.
Поэтому, повзрослев, я и стал писать прозу.
Она все-таки штука куда более «авторская», чем эти рифмованные колебания мирового эфира.
Мысли, переживания, выражения, словечки…
Вопросы, на которые именно у тебя нет ответа, вот и рисуешь закорючки на бумаге, пытаясь разобраться в происходящем.
Да еще и читателей своими проблемами морочишь, что – тоже не бесполезно.
Хороший читатель, он ведь в чем-то – тупо соавтор, потому как нет двух человек в этом мире, которые воспринимают один и тот же текст совершенно одинаково.
Такие дела.
Короче, там – я точно присутствую.
А стихи – я их лучше почитаю, или забьюсь в уголок, когда Шурик Васильев или Глебушка Самойлов после концерта снова возьмут в руки усталую гитару.
И – помолчу…
…Ребят встретили по дороге, на улице Горького, между «Пушкинской» и «Маяковской».
Человек двенадцать, наверное.
Перераспределили посуду.
Игорь сразу же выбил пробку и сделал огромный, даже по тем меркам, глоток: где-то на половину бутылки одним махом.
Его трясло.
Обсуждение его стихов только что закончилось фантастическим по масштабам нашего сообщества провалом – чего, в принципе, и следовало ожидать.
И вовсе не из-за низкого качества текстов: они-то как раз уровню молодежной литературной студии, даже такой солидной, как при редакции журнала «Юность», вполне соответствовали.
Это – очень мягко сказано, «соответствовали».
Игорь выделялся на фоне остальных студийцев, типа как выделяется породистый орловский скакун-жеребец, случайно оказавшийся в одном стойле с холощеными деревенскими тяжеловозами.
Пояснений, я думаю, не требуется.
Просто так уж сложилось, что именно в «Юности» в те времена собирались люди, не понимающие и не принимающие текстов без какого-нибудь закрученного и завинченного заковыристого изъебона: метафористы, метареалисты и прочие постмодернисты.
А Игорь работал скорее в традиционной манере и, следовательно, – был чужаком.
Он вообще для всех был чужаком, – кроме нас с Вещевайловым, наверное.
Включая собственную жену и длинный, как хвост у экзотической бразильской змеи анаконды, список случайных подруг и совсем не случайных любовниц.
Сильный, красивый, успешный, талантливый мужик.
В двадцать пять лет – кандидат каких-то сложных технических наук.
И – на голову талантливее всего этого окололитературного студийного сброда, предел мечтаний которого, – публикация подборки стихотворений в каком-нибудь толстом журнале второго-третьего порядка.
По крайней мере, в потенциале.
Только вот ведь в чем трабл, стосы, – не вписывался он никуда: ни в авангард, ни в арьергард, ни даже в какой-нибудь, господи прости, андеграунд.
Ну и как такого, спрашивается, при случае не схомячить?
…Видимо, в моих глазах плескалась тогда такая за него наивная полудетская обида, такая искренняя мальчишеская боль, что Игорь, оторвавшись от пузыря, перехватил мой взгляд, хлопнул по плечу и протянул бутылку, которую мы тут же с Вещевайловым и Меламедовым благополучненько прикончили…
Прониловер
…Ехать, оказывается, решили к нашему общему другу Прониловеру, в Строгино, чему я искренне огорчился. Нет, самого Эдика я как раз любил, – мы даже дружили, несмотря на солидную разницу в возрасте и его совершенно непроизносимую фамилию.
Моя-то, впрочем, – тоже недалече ушла, чиво уж там…
А дружили мы с ним и общались со временем все больше как раз потому, что, помимо прочего, нас необыкновенно сближало еще и некоторое, несвойственное тем кругам, пусть и относительное, но – психическое здоровье.
И несколько настороженное отношение к разного рода психическим отклонениям, особенно с претензией на гениальность. Все же остальное сообщество жило по незыблемому принципу: чем дурнее, тем моднее и охуеннее.
В смысле, чем более человек сумасшедший, тем он более «гениален». Литературный талант, дар и относительно нормальное состояние нервной системы считались в молодых московских «поэтических кругах» тех лет явлениями абсолютно несовместимыми.
Даже не обсуждалось.
Либо соглашайся, либо – проваливай.
Быть психически здоровым и устойчивым человеком не то чтобы считалось немодным, нет.
Все было значительно хуже.
Здоровье несло в себе неистребимый кислый металлический привкус обывательщины: так же, как герань на подоконнике, любимая сиамская кошка, или, скажем, поездка к теще на дачу, – и не важно, любишь ты эту тещу или нет, и нравится ли тебе это самое дачное времяпровождение.
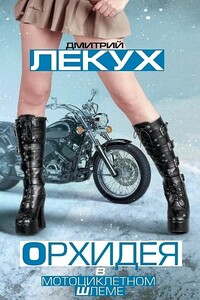
В этой книге известный писатель Дмитрий Лекух («Мы к вам приедем», «Я русский», «Башни и сады Вавилона», «Игра слов», «Враг демократии» и др.) предстает в новой роли.То, что он скромно называет «лирикой», на самом деле — размышления о жизни и смерти, о любви и разлуке, о дружбе и предательстве. То есть о том, о чем в какой-то момент задумывается каждый из нас. Вернее, должен задумываться, чтобы сказать себе, как один из ее героев: «Неправильно живем…».
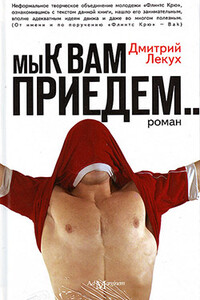
Первый российский роман об околофутболе.Дмитрий Лекух, «русский Дуги Бримсон», бизнесмен и футбольный болельщик с более чем 10-летним стажем, написал роман о «Спартаке», топ-боях, золотых выездах и любви к Лондону.Главный герой, молодой оболтус, решает сделать карьеру в фанатских кругах. Вслед за ним читатель проникает в самую суть современного футбольного мира, а параллельно следит за взрослением неопытного парня.Будущий бестселлер также продолжает традицию романов, написанных преуспевшими бизнесменами – непрофессиональными писателями (Арсен Ревазов, Сергей Минаев).
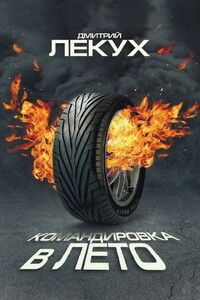
Столичный журналист-телевизионщик Глеб Ларин отправляется в черноморский городок, чтобы снять документальный фильм. Там его ждут люди, которые, не занимая никаких постов, на самом деле рулят городом. Но, освоившись в обстановке, Ларин вдруг попадает в руки бандитов…

Футбольных фанатов считают хулиганами. Но когда играет сборная, они готовы забыть на время о своих разногласиях и объединиться. Эти люди всю свою страну воспринимают как ее сборную, честь которой нужно защищать всегда, при любых обстоятельствах, любыми силами и средствами.
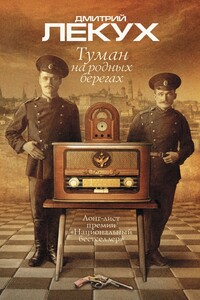
Красные проиграли гражданскую войну, в Германии пришли к власти коммунисты, а Гитлер прославился как художник-модернист. Так ли уж меняется мир от перемены мест слагаемых? – спрашивает нас Дмитрий Лекух. Его эксперимент в жанре «альтернативная история» – это умный, точный и хлесткий текст и, как всегда, неповторимый стиль.…Полковнику Никите Ворчакову поручили расследовать убийство крупного военного чина, которого расстреляли вместе с целым взводом охраны. Это не просто дерзкое преступление, это вызов безопасности могущественной Российской Империи и лично ее Великому вождю – Валентину Петровичу Катаеву.Книга вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».
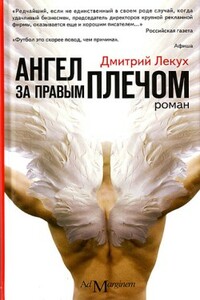
Второй роман Лекуха, в котором действуют те же герои, что и в «мы к вам приедем...», «хулиганы» из «спартаковской основы» – Гарри, Мажор, Али, и т.д., но это уже не совсем фанатская история. Повзрослевший Дэн, герой-рассказчик и первого и второго романа – уже вполне состоявшийся лидер, готовый в трудную минуту встать рядом со старшими.Трудная минута не заставляет себя ждать. Накануне важной фанатской стычки, жена Али, экс-лидера хулиганского моба, попадает во время нелегальной стритрейсерской гонки в аварию.
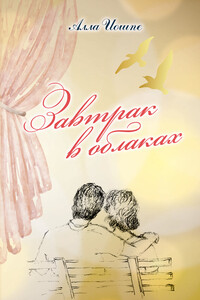
Честно говоря, я всегда удивляюсь и радуюсь, узнав, что мои нехитрые истории, изданные смелыми издателями, вызывают интерес. А кто-то даже перечитывает их. Четыре книги – «Песня длиной в жизнь», «Хлеб-с-солью-и-пылью», «В городе Белой Вороны» и «Бочка счастья» были награждены вашим вниманием. И мне говорят: «Пиши. Пиши еще».
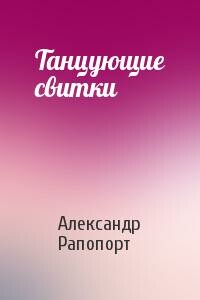
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
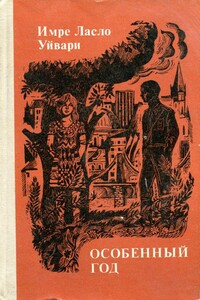
Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
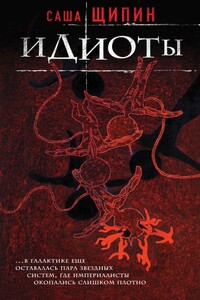
Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.
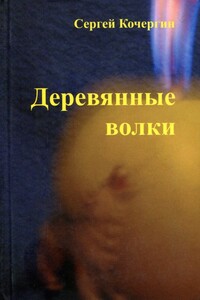
Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.