Игра слов - [2]
Знающий человек никогда не будет оценивать текст «на слух».
«Глазами» – оно вернее.
Особенно если это глаза не прежнего восторженного десятиклассника, а прилично битого и жизнью, и «игрой в слова» матерого сорокалетнего мужика, которому иногда уже скучно жить.
Даже вспоминать скучно, не то чтобы читать и перечитывать.
Но – все одно, тянет.
Предчувствие. 1982
…Нет, они были не без удач, эти стихи, не без мрачного, глухого предчувствия нелепой и неуклюжей судьбы, – и своей, и страны, она у обоих, что там говорить, не очень-то и задалась, – не без искры божьей, наконец.
Но искра – еще не огонь.
Так, проблески.
Мерцание, до поры до времени малопонятное.
Может, конечно, и полыхнуть, но чаще – тупо почадит, да и перестанет безо всякого тебе объяснения причин.
Природа, мать ее через все сущее.
Молодость.
Против нее не попрешь.
Но это – я сейчас понимаю.
Как модно писать в соответствующей мемуарной, блин, на фиг, литературе: «я-нынешний», ага…
…А тогда, после очередного жаркого обсуждения подборки чужих стихов, «я-прежний», напротив, ни о чем таком не думал, а просто старательно отвлекал дежурную в холле редакции журнала «Юность», где оное обсуждение и происходило.
Студия Кирилла Ковальджи, прошу любить и жаловать.
Одна тысяча девятьсот восемьдесят второй год.
Весна, блин…
…Отвлекал старательно и успешно, образ интеллигентного мальчика из хорошей семьи мне давался, врать не буду, куда легче, чем остальным «членам молодого столичного поэтического сообщества».
Мне даже играть его не надо было: стоило только на секунду сосредоточиться, на время перестать быть «продвинутым молодым московским поэтом» и вернуться в свое обычное повседневное состояние.
На очень короткое время.
Достаточное для того, чтобы отнюдь не претендующий на интеллигентность Вовка Вещевайлов спиздил у несчастной старушки очередной жизненно необходимый вышеуказанному поэтическому сообществу стакан…
…Потом – о, «потом» было заранее известно и предсказуемо, как неизбежен и предсказуем был, согласно документам партии и ее передового молодежного отряда, крах мирового империализма.
Быстрый сбор всех имеющихся в наличии у желающего выпить народа, уж простите за невольную тавтологию, наличных средств. Короткий и выверенный за время предыдущих рейсов маршрут с Маяковки на Пушку.
До единственного работающего по позднему вечернему времени спиртосодержащего универмага «Елисеевский».
Можно, конечно, и пешочком было пробежаться, благо недалеко, но – лучше на метро. Одну станцию, от «Маяковской» до недавно открытой «Горьковской», по зеленой, как сама наша молодость, линии.
Так быстрее.
Если не успеешь – придется идти на поклон к таксистам.
А у них, сцуко, – дорого.
Это на окраинах, в парках, таксисты берут рубль или полтора «сверху», в центре и на вокзалах ломят иной раз чуть ли не две цены. В «Елисеевском» за те же деньги, что у таксеров уйдут на две «Русских» с тусклой, будто вытершейся, этикеткой, можно было целых три «Пшеничных» по 0,7 приобрести.
Или четыре «Посольских» по 0,5.
Или – еще какую-нибудь «Казачью особую».
Ну а если денег народ набрал прилично, – можно разжиться и отчаянно пахнущим клопами «старшим лейтенантом» какого-нибудь не шибко в те благословенные времена котируемого кизлярского коньячного завода.
Это сейчас дагестанские напитки стали коньяками называть, в ту пору от них даже молодые русские поэты отчаянно шарахались.
Типа как помойные коты при приближении тетечки из санэпидемстанции.
До тех пор, разумеется, пока оставалась надежда затариться портвешком элитного класса «Агдам» (вполне годились и «три семерки»), ящиком ядреного «сухаря» или не сильно паленой «беленькой».
Если надежды не оставалось – пили все, что горит.
Потом читали друг другу дурные большей частью стихи и старательно разбивались по парам, чтобы под эти же самые стишата и потрахаться. Рифмы в кратких перерывах между фрикциями – возбуждали не хуже неизвестной в то благословенное время «Виагры».
Хотя, врать не буду, и сейчас пока что без нее, родимой, справляемся…
Баллада о Рыжих. 1980–1982
…Сам я тогда в «Юности» обсуждения собственной «подборки», понятное дело, не удостаивался.
Куда мне!
Там блистал «метафорист» Парщиков, забегал иногда вечно пьяный «старший матрос Еременко», мрачно посиживал казавшийся живым классиком Ваня Жданов, выпустивший к тому времени свою первую книжку.
А это, извините, – ого-го какой рубеж по тем временам и нравам.
Особенно если учесть, что власть предержащие «метафористов», как и любых прочих «абстакцистов», – не просто не жаловали, но и считали, вслед за обожаемым «шестидесятниками» «архитектором Оттепели» и «предтечей перестройки» Никитой Сергеевичем Хрущевым, – исключительно пидарасами.
А Жданов – все равно издал!
Классик, чего уж там.
Живой, можно сказать.
Хотя и – не всегда.
От количества портвейна зависит, до визита в «Юность» употребленного.
Ага.
Да и стихи писал хорошие, некоторые до сих пор помню.
Там, у Ковальджи, даже наш с Вещевайловым юношеский кумир Игорь Афонин проходил исключительно по разряду «молодых-небездарных», чего уж тут говорить про какого-то десятиклассника, старательно и отчаянно всем окружающим врущего про то, что он студент незнамо какого вуза.
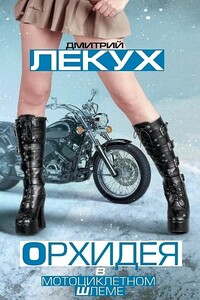
В этой книге известный писатель Дмитрий Лекух («Мы к вам приедем», «Я русский», «Башни и сады Вавилона», «Игра слов», «Враг демократии» и др.) предстает в новой роли.То, что он скромно называет «лирикой», на самом деле — размышления о жизни и смерти, о любви и разлуке, о дружбе и предательстве. То есть о том, о чем в какой-то момент задумывается каждый из нас. Вернее, должен задумываться, чтобы сказать себе, как один из ее героев: «Неправильно живем…».
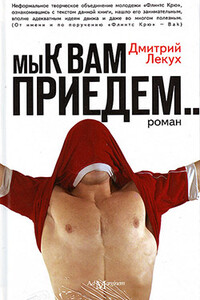
Первый российский роман об околофутболе.Дмитрий Лекух, «русский Дуги Бримсон», бизнесмен и футбольный болельщик с более чем 10-летним стажем, написал роман о «Спартаке», топ-боях, золотых выездах и любви к Лондону.Главный герой, молодой оболтус, решает сделать карьеру в фанатских кругах. Вслед за ним читатель проникает в самую суть современного футбольного мира, а параллельно следит за взрослением неопытного парня.Будущий бестселлер также продолжает традицию романов, написанных преуспевшими бизнесменами – непрофессиональными писателями (Арсен Ревазов, Сергей Минаев).
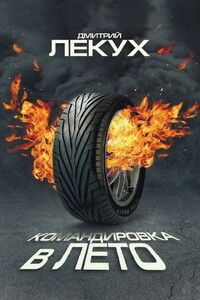
Столичный журналист-телевизионщик Глеб Ларин отправляется в черноморский городок, чтобы снять документальный фильм. Там его ждут люди, которые, не занимая никаких постов, на самом деле рулят городом. Но, освоившись в обстановке, Ларин вдруг попадает в руки бандитов…
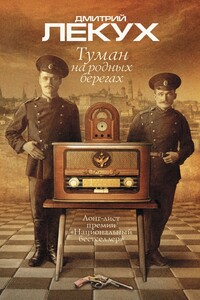
Красные проиграли гражданскую войну, в Германии пришли к власти коммунисты, а Гитлер прославился как художник-модернист. Так ли уж меняется мир от перемены мест слагаемых? – спрашивает нас Дмитрий Лекух. Его эксперимент в жанре «альтернативная история» – это умный, точный и хлесткий текст и, как всегда, неповторимый стиль.…Полковнику Никите Ворчакову поручили расследовать убийство крупного военного чина, которого расстреляли вместе с целым взводом охраны. Это не просто дерзкое преступление, это вызов безопасности могущественной Российской Империи и лично ее Великому вождю – Валентину Петровичу Катаеву.Книга вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

Футбольных фанатов считают хулиганами. Но когда играет сборная, они готовы забыть на время о своих разногласиях и объединиться. Эти люди всю свою страну воспринимают как ее сборную, честь которой нужно защищать всегда, при любых обстоятельствах, любыми силами и средствами.
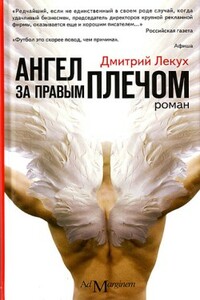
Второй роман Лекуха, в котором действуют те же герои, что и в «мы к вам приедем...», «хулиганы» из «спартаковской основы» – Гарри, Мажор, Али, и т.д., но это уже не совсем фанатская история. Повзрослевший Дэн, герой-рассказчик и первого и второго романа – уже вполне состоявшийся лидер, готовый в трудную минуту встать рядом со старшими.Трудная минута не заставляет себя ждать. Накануне важной фанатской стычки, жена Али, экс-лидера хулиганского моба, попадает во время нелегальной стритрейсерской гонки в аварию.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
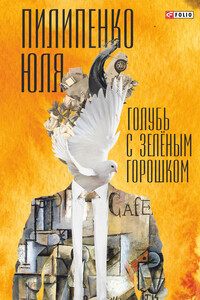
«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, в основу которой лег одноименный художественный фильм «ТАНКИ». Эта кинокартина приурочена к 120 -летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Ильича Кошкина и посвящена создателям танка Т-34. Фильм снят по мотивам реальных событий. Он рассказывает о секретном пробеге в 1940 году Михаила Кошкина к Сталину в Москву на прототипах танка для утверждения и запуска в серию опытных образцов боевой машины. Той самой легендарной «тридцатьчетверки», на которой мир был спасен от фашистских захватчиков! В этой книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности.
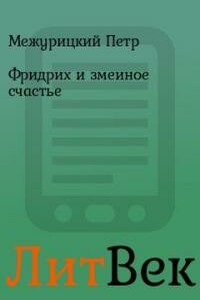
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.