Иероглифика - [5]
Св. Августин считал, что эти сферы походили на идеи Бога перед Сотворением. Постичь их мог лишь человек, осознавший факт предопределенности – человек, уверовавший в строгую незыблемость Фортуны. Однако такое убеждение не было свойственно людям III века нашей эры – века, в котором, предположительно, жил Артемидор.
Предсказания практиковались издревле. Каждый знал, что одно событие может случиться с ним более определенно, чем другое. Люди не особенно задумывались над этим. Они просто пытались уклониться от последствий некоторых действий. Так же поступали и их предки, когда игнорировали уроки, полученные от дельфийского оракула.
Учение стоиков побуждало людей подстраиваться под силы судеб, словно человек имел такую возможность. Их мировоззрение позволяло им принимать или не принимать волю рока. В христианской доктрине, несмотря на догму свободной воли, также доминировала вера в детерминизм.
И мы видим, как св. Августин и Боэций (хотя последний мог и не быть христианином) пытались примирить эти два антагонистических понятия.
К Артемидору следует относиться не как к писателю, который подал идею геральдики и эмблематики, а как к человеку, создавшему новую интеллектуальную атмосферу. Люди, читавшие его книги, начинали размышлять о животных, растениях и частях тела, как о символах идей.
Мир превращался в единое целое, в «Библию природы», и это еще раз доказывало доброту и рационализм Невидимого Творца. Человек рассматривал Творение, как факт существования Создателя. Он находил в нем признаки не просто рационального ума (поскольку рациональности здесь было недостаточно), но и безграничной доброты.
В то время как циник Диоген познавал жизнь, наблюдая за муравьями и мышью, человек Ренессанса видел в аисте и пчеле примеры морального поведения – поведения, которое не нуждалось в размышлении или философских спорах, но просто возникало само по себе согласно великому божественному плану. Живые существа, как меньшие братья людей, не нуждались в интеллекте, ибо через них проявлялся разум Бога. Это было серьезным аргументом, который в XVI–XVII веках не осмеливалась оспаривать даже сатира.
Пока мы рассказали только о двух источниках, вызвавших интерес людей к символам – о неоплатонизме Плотина и о соннике Артемидора. Чтобы перейти к Гораполлону и геральдической литературе, я приведу отрывок из заметок Марсилио Фикино, который переводил Плотина. По его мнению, иероглифы демонстрировали людям платонические идеи. Вот что он писал:
«Египетские жрецы, когда им нужно было указать на божественные истины, не использовали буквы, а рисовали фигуры растений, деревьев и животных; они понимали, что знание, передаваемое Богом, не предполагает дискурсивное мышление, но выражается в простой и незыблемой форме. К примеру, ваша мысль о времени является многогранной и подвижной. Она утверждает, что время поспешно и с помощью различных преобразований объединяет начало с концом. Время учит осмотрительности, вносит объекты и события в реальность, а затем разрушает их. Египтяне воплощали это знание в одном-единственном образе. Они рисовали крылатую змею, держащую во рту свой хвост. Как описывает Гор, жрецы сходным образом изображали и другие вещи».
Фикино называл Гором автора этой книги – Гораполлона. Змея с хвостом во рту описана в «Иероглифике» (1, 2), но она не символизирует время[11]. Фикино дал другое толкование иероглифа, потому что у ранних авторов змея являлась символом времени. Именно так ее интерпретировал Кирилл Александрийский в своих нападках на Юлиана (а его статья близка по дате к «Иероглифике»).
У Артемидора (II, 13) змея вообще не кусала хвост. Она теряла кожу, омолаживалась и среди прочих интерпретаций служила символом времени. Нам не известно, какой манускрипт Гораполлона читал Фикино. В 1940 году во Флоренции имелось четыре текста, сохранившихся с XV века. Самый старший из них якобы был привезен с острова Андрос в 1419 году. Мы не будем гадать о причине расхождений, возникших в тексте Фикино, но отметим, что он знал о содержании книг Гораполлона и был наслышан об иллюстративном соответствии иероглифов с тезисами Плотина.
Первое издание «Иероглифики» датируется 1505 годом. Оно было напечатано вместе со сказками Эзопа.
На протяжении следующей сотни лет появилось около тридцати изданий, переводов и перепечаток этого труда, не говоря уже о текстах с комментариями, начало которым положил Валериано (1556). Каталог Bibliotheque Nationale насчитывает пять изданий XVII века. В 1835 году Конрад Лимане выпустил в Амстердаме издание с критической статьей, и вслед за этим через четыре года последовал английский перевод, выполненный Кори. К тому времени открытия Шампольона пробудили новый интерес к Египту, а признание французского ученого, что, по крайней мере, тринадцать иероглифов Гораполлона оказались правильными, вызвало новый интерес к нашему автору[12].
Какими бы ни были ошибки Гораполлона, ученые XVI века не осознавали их. Его считали непререкаемым авторитетом, и сомнения появились только в XVII веке.
Один из издателей текста, итальянский ученый Сбордон, цитирует трех авторов XVII века, которые первыми усомнились в знании Гораполлона и даже в его существовании

Книга римского мифографа Гигина - одна из немногих сохранившихся попыток древних ученых полно и систематично изложить греческие мифы. Написанная по-латински книга Гигина является переводом и переработкой сочинения неизвестного греческого эрудита, работавшего в век Антонинов, в эпоху возрождения греческой культуры и образованности. Издание сопровождается подробными комментариями и обстоятельным предисловием. .

Апология, которую афинский философ Аристид держал пред императором Адрианом (Императору Титу Адриану Антонину, Августу и Пию, Маркиана Аристида, философа из Афин).Перевод сделан А. Покровским с греческой версии Апологии.
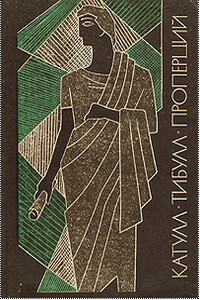
Эта книга могла бы по праву называться "лирикой Древнего Рима". Действительно, она включает все лучшее, что создано поэтами Рима в этом жанре. Бурный, не знающий удержу ни в любви, ни в ненависти Катулл, мечтательный Тибулл, темпераментный, остроумный Проперций до наших дней смогли сохранить редкое поэтическое обаяние. Их произведения впервые издаются на русском языке в столь полном объеме.
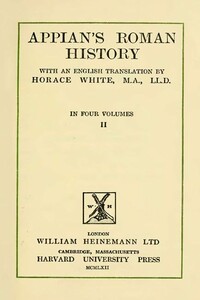
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Мимнерм (конец VII в.) происходил из Колофона или Смирны в М. Азии. Его предки переселились сюда, вероятно, из Пелопоннеса (см. фр. 6), и среди них, по-видимому, сохранились свидетели войны, которую жителям Смирны пришлось вести против царя Гигеса (ср. фр. 7, 8, может быть, из поэмы «Смирнеида»). Однако главной заслугой Мимнерма считается создание сборника любовных элегий (в одной или двух книгах), посвященных его возлюбленной флейтистке Нанно (фр. 1–5). Носили ли эти элегии эротический или мифологически-повествовательный характер, решить трудно.
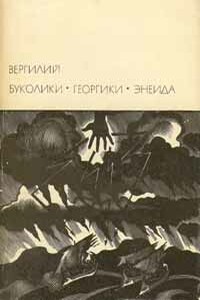
В книгу великого римского поэта Публия Вергилия Марона (70–19 гг. до н. э.) вошли его известные произведения: сборник пастушеских стихов «Буколики», дидактическая поэма «Георгики», эпос «Энеида».В настоящем томе «Библиотеки всемирной литературы» «Буколики» и «Георгики» публикуются в переводе С. Шервинского, коренным образом переработанном для этого издания; перевод «Энеиды», выполненный С. Ошеровым в 1954–1969 годах, публикуется впервые.Вступительная статья С. ШервинскогоПримечания Н. СтаростинойИллюстрации Д.