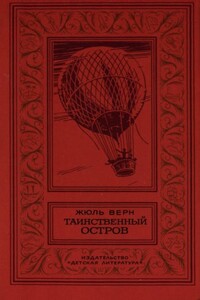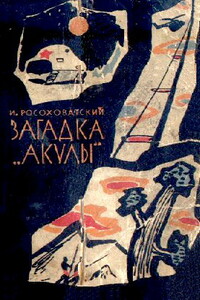Неизвестно, как долго я продолжал бы веселиться, если бы красота этой части города не привлекла мое внимание.
В самом деле, мы ехали вниз по бульвару Корнюо, спрямленному благодаря компромиссу, которого удалось достичь муниципалитету и администрации работных домов. Налево возвышался вокзал Сен-Рош. Здание это, заметно потрескавшееся еще в ходе строительных работ[47], казалось, уже успело оправдать посвященные ему стихи Делиля:[48]
Его массив несокрушимый собою время утомил!
Трамвайные рельсы были проложены по центральной аллее бульвара, затененной четырьмя рядами деревьев. Я когда-то видел, как их сажали, а теперь они выглядели двухсотлетними.
Еще через несколько секунд мы оказались в Ла-Огуа. Какие же изменения произошли с этим местом для гуляний, где еще в XIV веке «веселилась пикардийская молодежь»! Теперь здесь было нечто вроде Пре-Каталан:[49] чередование лужаек, устроенных по английской моде, и больших массивов кустарников и цветов, скрадывающих квадратную форму площадок, предназначенных для ежегодных выставок. Перепланировка среди еще недавно чахлых деревьев обеспечила им гораздо лучший приток света и воздуха, так что теперь они могли соперничать с гигантскими калифорнийскими веллингтониями[50].
В Ла-Отуа было людно. Программка не обманула. Здесь по случаю региональной выставки Северной Франции[51] выстроили целую вереницу павильонов, балаганов, палаток, навесов, киосков самой разнообразной формы и окраски. Как раз на этот день было назначено закрытие крупного смотра достижений промышленности и сельского хозяйства. Через какой-нибудь час должно было состояться награждение лауреатов — как двуногих, так и четвероногих.
Мне нравятся подобные выставки. Там находишь много полезного для ушей и глаз. Пронзительный грохот работающих машин, шипение пара, жалобное блеяние баранов в загонах, оглушительная болтовня птичьего двора, мычание огромных быков, требующих пальму первенства, речи представителей власти, помпезные рулады которых бесконечно льются с эстрады, то и дело раздающиеся аплодисменты, нежные звуки поцелуев, которые официальные губы запечатлевают на лбах победителей, военные команды, звучащие под высокими деревьями, и, наконец, неразборчивый гул, исходящий от толпы, — все это сливается в своеобразный концерт, очарование которого я глубоко чувствую.
Доктор подтолкнул меня к турникету. Приближалось время выступления представителя министра, и я не хотел пропустить ни слова из его торжественной речи, которая должна была оказаться новой как по форме, так и по содержанию, если только оратор не забудет о достижениях прогресса.
Я поспешил найти себе место на обширной четырехугольной площадке, отведенной для демонстрации машин. Доктор по очень высокой цене купил несколько бутылок драгоценной жидкости, которая была просто водой, обеззараженной фирмой Любена. Я же решил удовлетвориться двумя-тремя коробками фосфористого мармелада, уничтожавшего мышей настолько радикально, что им на время даже заменили кошек.
На площадке стоял оглушительный шум. Я услышал игру роялей, довольно точно воспроизводивших звучание симфонического оркестра. Совсем недалеко камнедробилки с ужасающим грохотом перемалывали камни. Жнейки «Альбаре и К°» жали хлеб на полях подобно цирюльнику, бреющему щеки клиента. Копры, оборудованные пневматическим приводом, наносили удары с силой трех миллионов килограммов. Центробежные насосы словно пытались высосать всю Селлу за несколько ходов поршня, воскрешая в памяти чудесную строку Эжесипа Моро[52], посвященную Вульзии:[53]
Залпом выпьет ее великан, если жаждет!
Со всех сторон меня окружали американские машины, воплощавшие самые последние достижения техники[54]. В одну закладывали живую свинью, а на выходе получали окорока двух сортов: йоркширский и вестфальский. В другую помещали еще трепещущего кролика, а машина возвращала шелковистую шляпу с подкладкой, не дающей голове потеть. Еще одна машина засасывала обычную шерсть, а выходил из нее полный комплект одежды из эльбёфского драпа[55]. Было и такое устройство, которое поглощало живого трехлетнего теленка, а выпускало два вида дымящегося рагу и пару свежевычищенных ботинок. И так далее, и так далее, и так далее.
Я не мог остановиться, осматривая чудесные создания человеческого гения. Теперь уже я тащил за собой доктора. Я словно опьянел!
Я пробрался к эстраде, уже прогибавшейся под весом важных лиц.
Сначала стали награждать толстяков, преимущественно чернокожих, как это делается в Америке на большинстве не слишком серьезных конкурсов.
Победитель был настолько достоин приза, что его пришлось увозить с помощью подъемного крана.
За конкурсом толстяков последовало соревнование худышек, и победительница, спускаясь с эстрады и скромно потупив глаза, несколько раз повторила слова одного из самых остроумных наших философов: «Толстых женщин любят, но только худых обожают!»
Потом пришла очередь младенцев. Их набралось несколько сотен, и среди них премировали самого тяжелого, самого юного и, кажется, самого горластого. Впрочем, все они, поскольку были страшно голодны, просили есть своим обычным не слишком приятным способом.