Идеал - [3]
Не разумнее ли рассудить как раз наоборот?
Гегель разрушает оба постулата кантовской философии (запрет противоречия и категорический императив) с позиции историзма. Против них он заставляет свидетельствовать историю науки и нравственности. При этом нравственность понимается Гегелем широко, включая, по словам Энгельса, «…1) абстрактное право, 2) мораль, 3) нравственность, к которой, в свою очередь, относятся: семья, гражданское общество, государство»[5].
История показывает, что вовсе не запрет противоречия и не категорический императив были тем идеалом, к которому изначально стремилась история человечества. Напротив, движущей силой развития духа в теории всегда было противоречие. Стало быть, не запрет, а наличие противоречия является формой и законом реального развивающегося духа (мышления). Диалектическое противоречие, т. е. столкновение двух взаимоисключающих и одновременно взаимопредполагающих тезисов есть поэтому не «фикция», не «иллюзия», не показатель заблуждения разума, не индикатор тщетности его попыток понять «вещь в себе», а его «естественная», имманентная ему форма и закономерность развития, а потому и форма постижения «вещи в себе».
Действительный идеал науки — это понимание вещи в себе как единства противоположностей, как живого развивающегося процесса, снимающего силой противоречия все «конечные», зафиксированные свои состояния.
Идеал знания и нравственности, который выдвигает Гегель против Канта, — это не застывшая мертвая «вещь», а «суть дела» — категория, диалектически противоречивая природа духа.
Вечное, никогда не завершаемое обновление духовной культуры человечества, происходящее через выявление противоречия в составе наличной стадии знания и нравственности и через разрешение этого противоречия — в рождении новой стадии, в свою очередь чреватой противоречием и потому также подлежащей «снятию», — таков идеал Гегеля. Это и было главной заслугой Гегеля в истории мысли. Однако это огромное завоевание было нейтрализовано идеализмом гегелевской философии. Гегель исходил из того, что именно мышление, саморазвивающееся через противоречие тезиса и антитезиса, есть причина развития и науки, и нравственности (т. е. истории). Поэтому идеал в его чистом виде вырисовывается перед человеком не в образах искусства и не в образе «идеального строя» жизни и нравственности, а только в «Науке логики», в виде системы диалектически развивающихся категорий. Всё же остальное — и искусство, и политическая история человечества, и промышленность, — короче говоря, все предметное тело цивилизации, — есть только «побочный продукт», издержки производства «чистой логики», сами по себе не имеющие значения. Таким образом, все другие (кроме логики) формы сознания и самосознания человечества — конкретные науки, право, искусство и т. д. — суть только «несовершенные воплощения» творческой силы диалектического мышления, земные воплощения идеала, представленного в «Науке логики».
В результате гегелевское учение об идеале оказалось в общем и целом крайне консервативным. Мышление, идеальный образ которого задан в «Науке логики», диалектично. Но когда это идеальное мышление обрабатывает естественно-природный материал, оно вынуждено с ним считаться. В итоге продукт всегда выглядит как идеал, преломленный через упрямую антидиалектичность земного, вещественно-человеческого материала.
Поэтому Гегель под видом единственно-возможного в земных условиях «воплощения» идеала и увековечивает (обожествляет) всю ту наличную эмпирию, которая ему исторически была дана. В том числе экономическую (хозяйственную) структуру «гражданского» — буржуазного общества, а далее, ее надстройку — конституционную монархию по образцу Англии или империи Наполеона. Прусская же монархия была им истолкована как весьма близкая к этому идеалу форма государства или как система, воплощающая этот идеал единственно-возможным в национально-немецких условиях способом.
Этот образ мысли вовсе не был личной изменой Гегеля принципам диалектики. Это было абсолютно-необходимым последствием и выводом из идеалистической диалектики. Соответственно идеал человека для Гегеля — это уже не всесторонне и гармонически развитая личность, а только личность, умеющая мыслить диалектически. При этом совершенно безразлично, кем эта личность является во всем остальном — чиновником или монархом, предпринимателем или даже лакеем. Таким образом, в качестве эмпирической предпосылки идеального (т. е. диалектически-мыслящего) человека эта теория идеала увековечивает наличную форму разделения труда в обществе, в частности товарно-капиталистическую. Разумеется, что ближе всего к идеалу, с этой точки зрения, стоит представитель диалектической логики. Таким образом, эта точка зрения идеализирует профессиональный кретинизм, возводит уродство в добродетель.
Условия же, обеспечивающие всесторонне-гармоническое развитие личности в современном (а тем более в грядущем) мире, согласно этому пониманию, абсолютно невозможны. Они были возможны лишь в младенческом состоянии мира, в рамках маленького античного полиса с его демократией. Большие размеры «современных» государств и сложность системы разделения труда делают невозможной и демократическую организацию общества, и всестороннее развитие способностей личности. Здесь, по Гегелю, естественной, т. е. соответствующей идеалу формой, является только иерархически-бюрократическая система управления общественными делами. Против этой стороны гегелевской философии государственного права прежде всего и была направлена критика Гегеля «слева», левогегельянская версия диалектики и учения об идеале. С этого же начал и Маркс. Именно в силу идеализма гегелевского учения об идеале гегелевский идеал органически враждебен коммунистическому идеалу, принципиально несовместим с ним. В силу этого выход из тупика, в который неумолимо попадала идеалистическая концепция идеала, был найден только тогда, когда диалектика связала свою судьбу с революционной борьбой пролетариата и порвала с формально-юридическим представлением о «равенстве» и об условиях развития личности.

На вопрос «Что на свете всего труднее?» поэт-мыслитель Гёте отвечал в стихах так: «Видеть своими глазами то, что лежит перед ними».Народное образование, 3 (1968), с. 33–42.
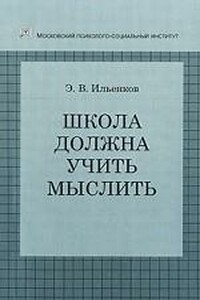
Как научить ребенка мыслить? Какова роль школы и учителя в этом процессе? Как формируются интеллектуальные, эстетические и иные способности человека? На эти и иные вопросы, которые и сегодня со всей остротой встают перед российской школой и учителями, отвечает выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков (1924—1979).
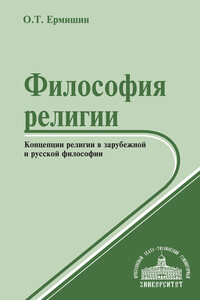
Учебное пособие подготовлено на основе лекционного курса «Философия религии», прочитанного для студентов миссионерского факультета ПСТГУ в 2005/2006 учебном году. Задача курса дать студентам более углубленное представление о разнообразных концепциях религии, существовавших в западной и русской философии, от древности до XX в. В 1-й части курса рассмотрены религиозно-философские идеи в зарубежной философии, дан анализ самых значительных и характерных подходов к пониманию религии. Во 2-й части представлены концепции религии в русской философии на примере самых выдающихся отечественных мыслителей.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины, с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси; их беседы проходили в виде диалогов. Беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами: они представляют собой исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении.Простым языком раскрывается природа двойственности и состояния ее отсутствия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Гегель. Большая Cоветская Энциклопедия, т.6, с. 176–177Гегель. Философский энциклопедический словарь., т.6, с. 176–177.