И плач, и слёзы... - [3]
Воспоминание первое
Мы сажали картошку. Mама шла за плугом, а мы с бабтей бросали картошку в землю. Я шел первым.
Бабтя. Не части. Расти не будет.
Мать остановила коня, повернулась ко мне.
Мать. Отдохни, сынок! Еще наработаешься в своей жизни!
Бабтя. Если с детства не приноровишься к работе, потом охоты не будет!
Она пошла к мешку, стала насыпать в коши картошку — мне и себе.
Не дай Бог, еще в колхоз загонят!
Я. Куда мы денемся?!
Бабтя. Поговори у меня...
Она замахнулась, но не ударила. Она часто била меня. Привязывала к лаве, брала вожжи и била. Мать обливалась слезами, а она била.
Пусть коммунисты в него прут, а нам там делать нечего. Чего стала?
Мать промолчала, зная бабтин норов. Тронула коня и пошла за плугом. За гумном послышались голоса. Во дворе появился Жук, председатель сельсовета по кличке Чума, в сопровождении Васьки Бычка, односельчанина, уполномоченного НКВД по коллективизации. Бабтя, увидев их, бросилась к гумну. Они по-хозяйски распахнули сарай, осмотрели имущество, потом пошли к гумну, где их встретила бабтя.
Бабтя. Чего хотели, паночки?
Жук. Паночки, мать, были при панской Польше! А мы представители Советской власти!
Он вышел из гумна, осмотрел мешки с картошкой, потом направился к маме.
Вот что, Мария! Завтра надо все сдать в колхоз: лошадь, зерно, картошку! И чтоб без всяких разговоров! Вы уже не частники, как при панах, а колхозники!
Мать. Какие мы колхозники, паночек? Мы этого слова не знаем! Слышать николи не слышали!
Васька. Что-о-о? Что ты сказала представителю власти?
Он старался говорить по-русски — этого хотело начальство, приучая народ к новой, советской жизни.
Мать. Какие мы колхозники, Васька? Мы еще несознательные!
Васька. Советская власть на то и Советская власть, чтоб из несознательных сделать сознательных!
Жук. Кому сказать? Великая Россия двадцать лет назад сдалась, а тут второй год бьемся и не можем организовать колхоз! Мы что — ради себя стараемся? По ночам не спим, жен и детей своих не видим, чтобы вас из этого дерьма вытащить!
Бабтя. А вы не старайтесь! Лучше с женами по ночам спите да за детьми смотрите!
Васька вновь сорвался, вскинул винтовку и бросился к бабте.
Не пугай — пужаные!
Жук (подошел ко мне). Вот ребенок и то понимает! Скажи, Михаил Николаевич, хочешь жить при коммунизме?
Я посмотрел на бабтю. Жук присел на корточки, потом поднял меня на руки.
А светлое будущее хочешь видеть?
Я опять посмотрел на бабтю.
Хочешь или нет?
Я (шепотом). Хочу!
Жук. Вот! Дети и то понимают, что иного пути нет! А вам вдолбить не можем, что Советская власть — это рай!
Бабтя (вскинула руки к небу, запричитала). Господи! Спаси и помилуй!
Вечером меня ждал страшный суд. Я лежал на лаве со спущенными штанами, мать держала меня, обливаясь слезами, а бабтя лупила вожжами.
Светлого будущего захотел, сукин сын? Я тебе покажу коммунизм! Я тебе покажу светлое будущее!
Это самое сильное впечатление моего детства, и я часто думаю, каким будет оно у моего внука Мишки, которому скоро исполнится шесть лет, и уже нет Советской власти, и никто не интересуется "светлым будущим". А тогда, пятьдесят лет назад, наше гумно превратилось в огромный склад крестьянского инвентаря, который днем заполнялся телегами, плугами, лошадьми, а ночью все это люди забирали обратно. Так продолжалось весь 1949 год. В конце концов народ дрогнул. Людей силой заставили поставить свои подписи. Наш колхоз назвали "Заря коммунизма", потом, к очередному юбилею Советской власти, переименовали в "Октябрь". Все это долго не давало мне покоя, я не знал, где и как это применить. В театре, где я ставил свои первые спектакли, невозможно — не было таких пьес, а тема была властями закрыта. Аукнулось через много лет, когда я снимал "Знак беды" Василя Быкова. Я прочитал повесть в рукописи и не спал всю ночь. На меня нахлынули воспоминания. Мне ничего не надо было придумывать — я все помнил, слышал все диалоги, помнил состояние людей, их разговоры, ночные сходки, на которых они договаривались стоять вместе, не сдаваться. Помню, как плакала моя бабтя, отдавая единственного коня в колхоз, как этот конь по ночам приходил к нашему сараю и тихо ржал — просился, чтобы впустили на его место. Бабтя с матерью сидели у окна и плакали, глядя на него. Все это не придумаешь, это надо было видеть и пережить. Сценарий моего детства уже давно лежит на столе. Но я не знаю, смогу ли осуществить свою мечту. Я снял много фильмов, получил много наград в Европе, но о том, что лежит на столе, никто не знает, потому что это рассказ от имени ребенка, о том, как эта жизнь отразилась на его душе и что из этой души Советская власть сделала. Может, единственный фильм, в котором я прикоснулся к струнам своей души,— это "Знак беды". Это был 1985 год, началась перестройка, у власти оказался Михаил Горбачев, и Быков как истинный художник, интуитивно предчувствуя перемены в стране, обратился к своим истокам — общим для всего нашего народа.
Этот фильм "вывез" меня в Европу, где я никогда не был. И первой страной, куда я поехал, была Югославия. Там проходил знаменитый кинематографический "фэст" — лучшие фильмы мира принимали участие в конкурсе. Лучшие режиссеры, операторы, актеры, продюсеры. Вручались только три главные премии: за лучший фильм, за лучшую женскую роль и за лучшую мужскую роль. И все главные премии получил "Знак беды". Известная русская актриса Нина Русланова — за лучшую женскую роль, народный артист Белоруссии, артист Национального театра имени Янки Купалы Геннадий Гарбук — за лучшую мужскую роль. Это была первая высокая награда белорусскому актеру за всю историю белорусского кино. Никогда в истории этого фестиваля, куда съезжаются кинематографисты всего мира, ни один фильм не забирал все награды. Я предчувствовал, что картина что-то получит, но такого финала вообразить не мог. Журналисты стучались ко мне в номер, ловили за обедом в ресторане, на улице. Они высоко оценили фильм в издаваемых ежедневно пресс-бюллетенях. Члены жюри как-то особенно вели себя со мной. Но пока результата еще не было. Все произошло в последний день. Я занял место в последнем ряду. С детства любил сидеть на "камчатке", как говорили в школе, поэтому и в институте, и на Высших режиссерских курсах сидел в последнем ряду, на последнем угловом кресле. Такое же место занял и тогда, в июле 1986 года в Югославии. Интуиция меня не обманула — все члены жюри, проходя мимо меня на сцену, пытались улыбнуться, а кто-то из них, не помню кто, взмахнул рукой. И грянул гром... Я с трудом пробирался на сцену, наступая, как слон, дамам на ноги. Гран-при я получил из рук председателя жюри, подошел к микрофону, сказал "спасибо" и пошел на свое место, но не дошел: опять объявили "Знак беды". Я — снова на сцену, в зале смех и аплодисменты, получаю премию за Нину Русланову. Сказал и за нее "спасибо", получил цветы. И снова не дошел до своего места — опять смех и бурные аплодисменты. Поворачиваюсь к залу: в чем, мол, дело? Оказывается, я пропустил слова председателя о третьей премии — он говорил на сербском языке. Опять поднимаюсь, получаю цветы и приз за Гену Гарбука и не могу все это удержать в руках. Мало того, не могу сойти со сцены, меня окружили фото- и тележурналисты, и первый вопрос — как я отношусь к перестройке в Советском Союзе? Начинаю говорить и вдруг вижу — напротив меня стоит представитель нашего посольства в Югославии, наверняка работник КГБ, я с ним познакомился в первые дни фестиваля. Он тогда мне сказал: "Если вы, Михаил Николаевич, будете встречаться с журналистами и они будут спрашивать вас о перестройке — будьте осторожны, вы представляете нашу страну, вы находитесь за границей..." и так далее. Он следил за мной. Следил, когда я давал интервью на сцене, следил во время пресс-конференции после награждения, следил на банкете за каждой выпитой рюмкой и даже во дворе — банкет был за городом, в особняке,— я чувствовал, что он стоит рядом. Когда я с ним познакомился, то понял,что он следил за мной с первого дня приезда. Черный костюм "Могилевского" покроя, черный галстук, белая рубашка... Человек жил в Европе, а имел вид советского стукача. Его знали сербы, они ему вежливо улыбались, но знали: стукач. На банкете они предупредили меня: "За вами следят". "Я знаю",— сказал я.

Тюрьма в Гуантанамо — самое охраняемое место на Земле. Это лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных тяжких преступлениях, в частности в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма в Гуантанамо отличается от обычной тюрьмы особыми условиями содержания. Все заключенные находятся в одиночных камерах, а самих заключенных — не более 50 человек. Тюрьму охраняют 2000 военных. В прошлом тюрьма в Гуантанамо была настоящей лабораторией пыток; в ней применялись пытки музыкой, холодом, водой и лишением сна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Брошюра написана известными кинорежиссерами, лауреатами Национальной премии ГДР супругами Торндайк и берлинским публицистом Карлом Раддацом на основе подлинных архивных материалов, по которым был поставлен прошедший с большим успехом во всем мире документальный фильм «Операция «Тевтонский меч».В брошюре, выпущенной издательством Министерства национальной обороны Германской Демократической Республики в 1959 году, разоблачается грязная карьера агента гитлеровской военной разведки, провокатора Ганса Шпейделя, впоследствии генерал-лейтенанта немецко-фашистской армии, ныне являющегося одним из руководителей западногерманского бундесвера и командующим сухопутными силами НАТО в центральной зоне Европы.Книга рассчитана на широкий круг читателей.
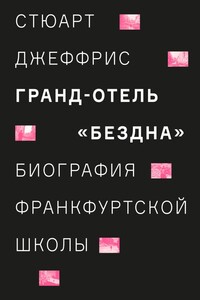
Книга Стюарта Джеффриса (р. 1962) представляет собой попытку написать панорамную историю Франкфуртской школы.Институт социальных исследований во Франкфурте, основанный между двумя мировыми войнами, во многом определил не только содержание современных социальных и гуманитарных наук, но и облик нынешних западных университетов, социальных движений и политических дискурсов. Такие понятия как «отчуждение», «одномерное общество» и «критическая теория» наряду с фамилиями Беньямина, Адорно и Маркузе уже давно являются достоянием не только истории идей, но и популярной культуры.

Книга представляет собой подробное исследование того, как происходила кража величайшей военной тайны в мире, о ее участниках и мотивах, стоявших за их поступками. Читателю представлен рассказ о жизни некоторых главных действующих лиц атомного шпионажа, основанный на документальных данных, главным образом, на их личных показаниях в суде и на допросах ФБР. Помимо подробного изложения событий, приведших к суду над Розенбергами и другими, в книге содержатся любопытные детали об их детстве и юности, личных качествах, отношениях с близкими и коллегами.
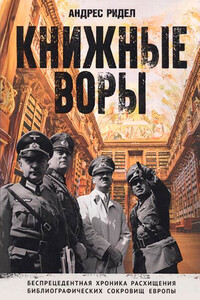
10 мая 1933 года на центральных площадях немецких городов горят тысячи томов: так министерство пропаганды фашистской Германии проводит акцию «против негерманского духа». Но на их совести есть и другие преступления, связанные с книгами. В годы Второй мировой войны нацистские солдаты систематически грабили европейские музеи и библиотеки. Сотни бесценных инкунабул и редких изданий должны были составить величайшую библиотеку современности, которая превзошла бы Александрийскую. Война закончилась, но большинство украденных книг так и не было найдено. Команда героических библиотекарей, подобно знаменитым «Охотникам за сокровищами», вернувшим миру «Мону Лизу» и Гентский алтарь, исследует книжные хранилища Германии, идентифицируя украденные издания и возвращая их семьям первоначальных владельцев. Для тех, кто потерял близких в период холокоста, эти книги часто являются единственным оставшимся достоянием их родных.