И хлебом испытаний… - [28]
Где-то над торосами Гренландского моря апрельский арктический воздух сгущался в антициклоны и плыл через Норвегию на Ленинград, наполняя город знобкой сизоватой серостью; декретное время уже отметило конец рабочего дня и с несуетной озабоченностью подсчитывало тонны, кубометры и мегаватты. А я будто попал в будущее — не осталось никаких уз, люди и город не были связаны со мной общностью опыта, непрерывностью времени, — точно во сне, когда кричишь, машешь руками и зовешь на помощь, но никто не слышит твоих слов и не замечает жестов. Я был одиноким невидимкой, время которого текло вспять — к тому апрелю сорок второго года.
Я умирал в куче тряпья на уродливой кленовой кровати, и два голоса, голос проповедника и голос нищенки, торговались за тот остаток жизни, который еще курился легким прозрачным парком над моими губами. Я хотел шевельнуться, подать голос за свою жизнь, но, как во сне, никто не мог услышать меня, хотя разговаривали они обо мне — еще обо мне. Но я уже был невидимкой — одиночество смерти делало меня таким, и оно давало спокойствие, вернее, безразличие, хотя я отчетливо понимал смысл слов отца. И первоначальное несогласие, возникшее во мне, сразу угасло, истощив последние силы. Мне было безразлично, будто не обо мне речь и не я умираю. Я уже был далеко, где то в другом измерении, где хрустально сверкали под апрельским солнцем и рассыпали лиловые искры мохнатые хвощи и папоротники на оконном стекле; световые годы уже отделяли меня от голоса усталой нищенки и голоса проповедника, — одиночество, окончательное отрешение, предел существования…
Но я существовал, вне всякого сомнения, когда лежал в куче тряпья и слышал разговор о своей смерти. А смерть — это отнюдь не иллюзия, и тот сахар, кусочек рафинада, реальнее целых сахарных складов и кондитерских магазинов, и сладость его острее и больше райских блаженств, потому что она — сладость возвращенной жизни…
Я ничего не выдумал, это не рефлексия, обращенная назад, — слишком жесткой силой реальности обладает смерть. Я ничего не выдумал. Отец был реальностью, а не голодным бредом (хотя лучше бы он был бредом), когда в тот апрельский день тридцать один год назад сидел за слоноподобным столом в этой комнате, где ничего не изменилось, и распоряжался моей смертью — только смертью, потому что моя жизнь казалась в тот день лишь неприличной иллюзией…
Сизо-серая апрельская улица в четыре часа пополудни декретного времени молчаливо уводила скромных прохожих, отработавших свой день; хмурились прошлым столетьем дома, деликатно шуршали легковые машины.
Я шел к отцу, и меня подмывало завернуть в соседнюю бакалею, купить целую пачку рафинада и поднести с трогательной благодарственной надписью.
Я шел по направлению к Салтыкова-Шедрина (бывшей Кирочной). Был апрель семьдесят третьего года, и весенние арктические антициклоны медленно влекли по небу полупрозрачные тени облаков, но мне слепило глаза блокадное солнце сорок второго. Так где же я был: здесь — теперь или там — тогда?
Не думайте, что тогда, в том апреле (а может, это теперь и здесь?), мне было всего девять лет от роду и я ничего не понимал и сейчас уже не помню, должен забыть. Я был тогда мудр предсмертной мудростью и понимал, что осужден умереть. Кого хоть раз настигало то спокойствие и безразличие — должен умереть. Нельзя заглянуть туда и вернуться. Но я выжил, и выжили другие. Такова судьба части моего поколения, и в этом наше счастье и наше несчастье.
Наше несчастное счастье…
И снова голодная одурь блокадной зимы затуманила глаза и вызвала головокружение, и давешнее предчувствие припадка сдавило грудь и виски, навалилось безотчетным парализующим страхом.
Я тащился по бывшей Надеждинской, и улица вливала в меня чуть обидчивое приятие данности…
Меня всегда занимал вопрос о зависимости между отношением человека к жизни и его личной судьбой. В юности, в звонкой, натянутой, как струна, ночной тишине, я почти постоянно думал об этом. Мне казалось, разрешив этот вопросик, я разгадаю тайну бытия. По-дикарски наивно и яростно верил я, что все связи жизни и судьбы можно выразить формулой, столь же изящной и строгой, как E = mc>2…[4]
В зарешеченное окошко камеры доносился глуховатый отдаленный шум грузовиков, проходящих по набережной; одинокая, неоново светящаяся звезда мерцала в сизых лохмотьях неба, четко обрезанного квадратом амбразуры; астматически хрипел во сне мой сокамерник — кроткий, застенчивый убийца, порешивший двух человек за шесть рублей и чекушку водки и теперь с тупым бездумным смирением ожидающий своей участи.
Я лежал на нарах и думал о связях жизни и судьбы. И с болезненной страстью верилось, что можно постичь секрет счастья одним лишь усилием короткого и не отягощенного знанием ума… И до сих пор во мне — усталом, изломанном, сорокалетием — порой вспыхивает идиотская надежда, что задачка имеет решение, что формула счастья существует. Но это вызывает теперь лишь расслабленную тихую грусть, как воспоминание о наивности детства. Хотя, возможно, те давние беспомощные мысли, та дикарская, наивная и яростная вера в гармонию и закономерность судеб помогли выжить, не сломаться, не заразиться безумием бесчувствия, с каким кроткий убийца ожидал своей участи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
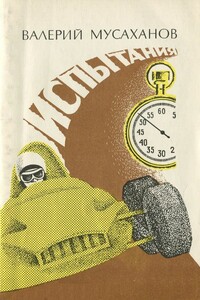
Валерий Мусаханов известен широкому читателю по книгам «Маленький домашний оркестр», «У себя дома», «За дальним поворотом».В новой книге автор остается верен своим излюбленным героям, людям активной жизненной позиции, непримиримым к душевной фальши, требовательно относящимся к себе и к своим близким.Как человек творит, создает собственную жизнь и как эта жизнь, в свою очередь, создает, лепит человека — вот главная тема новой повести Мусаханова «Испытания».Автомобиля, описанного в повести, в действительности не существует, но автор использовал разработки и материалы из книг Ю.
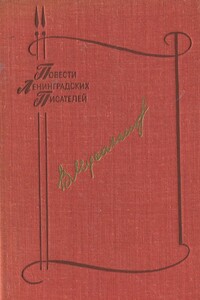
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
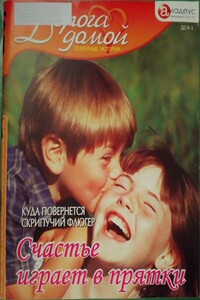
Для 14-летней Марины, растущей без матери, ее друзья — это часть семьи, часть жизни. Без них и праздник не в радость, а с ними — и любые неприятности не так уж неприятны, а больше похожи на приключения. Они неразлучны, и в школе, и после уроков. И вот у Марины появляется новый знакомый — или это первая любовь? Но компания его решительно отвергает: лучшая подруга ревнует, мальчишки обижаются — как же быть? И что скажет папа?
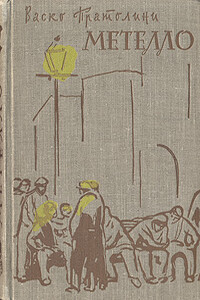
Без аннотации В историческом романе Васко Пратолини (1913–1991) «Метелло» показано развитие и становление сознания итальянского рабочего класса. В центре романа — молодой рабочий паренек Метелло Салани. Рассказ о годах его юности и составляет сюжетную основу книги. Характер формируется в трудной борьбе, и юноша проявляет качества, позволившие ему стать рабочим вожаком, — природный ум, великодушие, сознание целей, во имя которых он борется. Образ Метелло символичен — он олицетворяет формирование самосознания итальянских рабочих в начале XX века.

В романе передаётся «магия» родного писателю Прекмурья с его прекрасной и могучей природой, древними преданиями и силами, не доступными пониманию современного человека, мучающегося от собственной неудовлетворенности и отсутствия прочных ориентиров.
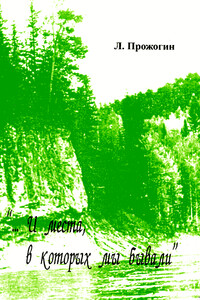
Книга воспоминаний геолога Л. Г. Прожогина рассказывает о полной романтики и приключений работе геологов-поисковиков в сибирской тайге.

Впервые на русском – последний роман всемирно знаменитого «исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения» («Вечерняя Москва»), «высшее достижение всей жизни и творчества японского мастера» («Бостон глоуб»). Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке, словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома «A Momentary Lapse of Reason»…
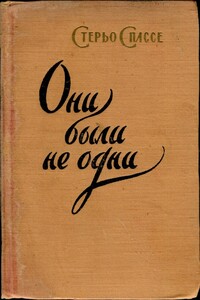
Без аннотации.В романе «Они были не одни» разоблачается антинародная политика помещиков в 30-е гг., показано пробуждение революционного сознания албанского крестьянства под влиянием коммунистической партии. В этом произведении заметно влияние Л. Н. Толстого, М. Горького.