Хроники: из дневника переводчика - [11]
Это тоже портрет Франции.
17 июня 2015
3. Армянское радио спрашивает…
Я рассказывал о том, как Арман Робен, Бодлер и Малларме переводили «Ворона» Эдгара По (см. хронику от 3 июня). То, что два поэта перевели этот текст прозой — симптоматично.
У меня такое ощущение, что сегодня вообще никто не принимает во внимание, что метрика — часть французской поэтической традиции; исключение делается только для александрийского стиха, и то с трудом… Я часто провожу занятия с молодыми актерами — и сколько из них интересовались устройством стиха? сколько было таких, кто не просто формально считал слоги (сбиваясь на элизиях и диерезах[6])? Сколько из них учитывали при чтении цезуру — естественно, как дыхание? Точно не скажу, но думаю: таких немного. А сколько найдется молодых переводчиков, способных создавать качественные стихи или хотя бы просто владеющих техникой, ведь, скажем, художникам даже в наши дни все еще положено учиться академическому рисунку, потому что, каким бы он ни казался глупым и устаревшим, какое бы недовольство ни вызывал, все-таки чтобы ему научиться, надо освоить правила: вы не сможете отходить от правил, если они вам неизвестны; так и нарушение правил, отклонения от них, благодаря которым рождается что-то новое в поэзии, нельзя придумать, не зная нормы и не замечая отступлений от нее. Слом традиции не существует сам по себе, без традиции.
Поясню: я воспроизвожу особенности стиха, скажем, Шекспира или Пушкина и, соблюдая их, пытаюсь показать преемственность, связи, переклички, например, между «Борисом Годуновым» Пушкина и «Ричардом III» Шекспира. Как я это делаю? Дело в том, что для меня французские стихи звучат не так, как их слышат французы: я слышу в них тоническое ударение и модуляцию[7]. Говорят, что во французском нет тонического ударения. Это не так: оно существует, но, во-первых, это ударение, падающее скорее не на слово, а на группу слов (с подчеркиванием последнего звучащего слога), а во-вторых, оно не играет никакой роли в традиционном стихосложении. Но у меня другое ухо, иностранное, ведь в детстве я жил в России, и я это ударение слышу.
Никто, кроме меня и всех остальных людей, говорящих по-русски, не слышит во французских стихах того, что слышу я. Но я, во-первых, не очень-то об этом беспокоюсь — убеждаю себя, что важно, только чтобы актер и читатель не могли прочесть мой текст иначе, не так, как слышу его я, и еще что совсем не важно, знает ли человек, что в его устах звучат ямб, анапест, хорей или какие-то другие размеры и как они называются. Сам я в устройстве стиха разбираюсь, это дело техники, и благодаря этому знанию у меня есть некая общая картина, ощущение, что я понимаю, как устроено все вместе (по крайней мере, надеюсь, что это так) — то есть я чувствую, как устроен не просто один конкретный стих, а как связаны между собой стихи на одной странице и внутри одной сцены, и вообще во всей пьесе. И мне хотелось бы, чтобы читатель слышал эти ритмы, пусть даже не зная, как называется какой размер, а остальное, вся техника, — это в конце концов моя профессиональная кухня, и никому, кроме меня, ее понимать не обязательно.
Те, кто бывал на моих выступлениях, знают, что, рассказывая о своей работе, я всегда вспоминаю один анекдот из серии «армянское радио спрашивает» — это вроде наших шуток о бельгийцах. Анекдот такой — и он многое объясняет:
— Можно ли построить социализм в Швейцарии?
— Можно, только зачем?
В этом анекдоте — вся моя жизнь. Технически я могу воссоздать на французском стихи Шекспира и любого другого автора, писавшего на индоевропейских языках, — серьезно, я это умею. Несмотря на то что для этого нужна многодневная, непрерывная, кропотливая работа и все движется страшно медленно, но я могу, я свое дело знаю: покажи мне, как это устроено, и я воспроизведу в точности. Только вот зачем? Зачем это делать, если эта моя работа не вписывается во французскую литературную традицию, не укладывается естественным образом в эту культуру? Зачем тратить время на переложение ямбов Шекспира, а потом Пушкина, потом, не знаю, допустим, Блока или Ахматовой, зачем воссоздавать европейскую поэзию, показывая ее как непрерывный диалог стихотворных размеров и, следовательно, человеческих жизней, исторического опыта, — если здесь, во Франции, Шекспир уже переведен прозой или верлибром? Никакого смысла в этом нет, потому что никто не понимает, ни с чего все это началось, ни к чему пришло, ни самого процесса, ни смешной, ни трагической составляющей того, что я называю «воссозданием», а на самом деле это никакое не воссоздание, а буквально пересадка дерева без корней, то есть обреченного на гибель.
Сколько раз я слышал от своих друзей, театральных режиссеров, этот вопрос: «Ну зачем ты переводишь стихами? Получается искусственно». Может быть, им хочется сказать: «получается коряво» — и это правда так, ведь когда переводишь стихами, приходится выставлять на всеобщее обозрение свои слабости — каждая мелочь тут на виду, и малейший промах становится приговором всему тексту. К тому же есть и более серьезная проблема: ведь текст, скажем, Шекспира, в моем переводе получается намного сложнее, чем в любом другом. Сложнее в том смысле, что этот текст требует внимания, он не позволяет актеру обращаться с ним свободно (по крайней мере, не сразу, не при первом прочтении).

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.
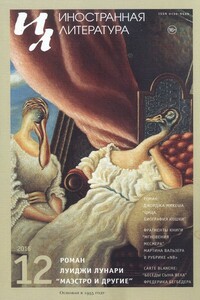
В поэтической рубрике — подборка стихотворений финской поэтессы Ээвы Килпи в переводе Марины Киеня-Мякинен, вступление ее же.
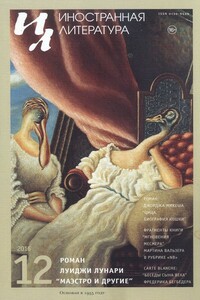
В продолжение авторской рубрики писателя и математика Александра Мелихова (1947) «Национальные культуры и национальные психозы» — очередное эссе «Второсортные европейцы и коллективные Афины». Главная мысль автора неизменна: «Сделаться субъектами истории малые народы могут исключительно на творческим поприще». Героиня рубрики «Ничего смешного» американка Дороти Паркер (1893–1967), прославившаяся, среди прочего, ядовитым остроумием. «ИЛ» публикует три ее рассказа и несколько афоризмов в переводе Александра Авербуха, а также — эссе о ней нашего постоянного обозревателя американской литературы Марины Ефимовой. В разделе «Пересечение культур» литературовед и переводчик с английского Александр Ливергант (1947) рассказывает о пяти английских писателях, «приехавших в сентябре этого года в Ясную Поляну на литературный семинар, проводившийся в рамках Года языка и литературы Великобритании и России…» Рубрика «БиблиофИЛ».

В рубрике «NB» — фрагменты книги немецкого прозаика и драматурга Мартина Вальзера (1927) «Мгновения Месмера» в переводе и со вступлением Наталии Васильевой. В обращении к читателям «ИЛ» автор пишет, что некоторые фразы его дневников не совпадают с его личной интонацией и как бы напрашиваются на другое авторство, от лица которого и написаны уже три книги.

Открывается номер небольшим романом итальянского писателя, театроведа и музыкального критика Луиджи Лунари (1934) «Маэстро и другие» в переводе Валерия Николаева. Главный режиссер знаменитого миланского театра, мэтр и баловень славы, узнает, что технический персонал его театра ставит на досуге своими силами ту же пьесу, что снискала некогда успех ему самому. Уязвленное самолюбие, ревность и проч. тотчас дают о себе знать. Некоторое сходство с «Театральным романом» Булгакова, видимо, объясняется родством закулисной атмосферы на всех широтах.