Хлыст - [6]
Великая мечта развертывалась на нескольких уровнях: мистическом уровне отношении с Богом, политическом уровне отношений с обществом и эротическом уровне отношений с телом. Измененная сексуальность участвовала в ней вместе с экономическим равенством, политическим анархизмом и биологическим бессмертием. Мистика, политика и эротика составляли три измерения этого самого большого из нарративов. Если они не сливались в учениях самих еретиков, сюжеты обвинения добавляли недостающую целостность. В первых же расследованиях инквизиция сформулировала стандартное обвинение против еретиков. Они поклонялись дьяволу, что означало соединение доктринального инакомыслия с социальной опасностью и с сексуальной девиантностью. Первое обвинение катаров в оргиях было сформулировано еще в 1022 году в Орлеане. Со временем совместные усилия инквизиторов и тех, кого они пытали, родили более изысканные плоды. В 1114 двух еретиков в Суассоне обвинили в гомосексуальном сожительстве. В 1240 некий Георг из Флоренции обличал еретиков в том, что они предпочитают содомский грех другим удовольствиям. Ересиарх Анри Лозанский обвинялся в бисексуальном разврате. Реймский собор 1157 года признал оргии частью катарской ереси. В 1233 откровенный сюжет с целованием срамных мест попал в Папскую буллу[23].
В подпольном брожении средневековой Европы развивались идеи и практики, которые потом будут бесконечно выявляться, обличаться и обсуждаться в литературных и философских текстах Просвещения, романтизма и модерна. Начиная с середины 12 века еретики Свободного духа, которые называли себя также спиритуалами и либертинами, проповедовали от Пикардии до Силезии, от Лондона до Любека. По поводу содержания их учений мнения расходятся. Самый решительный, но и самый авторитетный из историков видел в этих еретиках ранних предшественников Бакунина и Ницше; к ним можно добавить и таких учителей современности, как де Сад, Фурье и Распутин.
Свободный дух был системой само-экзальтации, которая часто доходила до само-обожествления; попыткой тотального освобождения, которая на деле находила выражение в анархическом эротизме; а часто и революционной социальной доктриной, которая разоблачала институт частной собственности и пыталась отменить его[24].
Достигнув совершенства в результате многолетнего аскетического подвига, адепт Свободного духа верил в то, что отныне он равен Богу и, значит, не способен к греху. Все, что бы ни делал Совершенный, было в равной степени свято. Следствием являлся утонченный эротизм, который видел в физической любви символ духовного освобождения и был противоположен церковному пониманию секса как греха. В 1163 году 11 еретиков — 8 мужчин и три женщины — были схвачены под Кельном. Они отказались покаяться и были сожжены. Согласно обличениям инквизиторов, эти люди верили в то, что они и только они являются подлинными носителями Святого Духа. Отрицая церковь и ее таинства, они считали себя чистыми от греха и позволяли себе секс с кем угодно и любым способом. Эта ересь была преобразована в правильно разработанную теологическую доктрину под пером профессора Парижского университета Амори. Скоро все живущие станут спиритуалами и, подобно Христу, смогут сказать: Я — сын Бога, — учил он. Церковь же обвиняла аморитов в ars erotica особого рода: соблазняя женщин, они обещали им, что грех, совершенный с ними, наказан не будет[25]. Амори был принят в высшем свете, и наследник французского престола считался его учеником; но в 1215 секта аморитов была отлучена Папской буллой. В начале 14 века общины Свободного духа обнаруживались в Голландии, Баварии, Силезии, заходя на Восток вплоть до Вроцлава. В Германии спиритуалы смыкались с флагеллантами; их поздняя община под названием Кровавых Братьев была обнаружена под Эрфуртом в 1551 году. К Братству Свободного духа принадлежал Иероним Босх. Сила искусства в том, что оно способно воплотить страхи и надежды самых странных людей в образы, понятные столетия спустя.
В отличие от катаров и вальденцев, еретики Свободного духа не стремились образовать единой секты, устроенной наподобие церкви. Они существовали в форме оседлых или бродячих групп, часто связанных между собой. Обожествляя мир, наиболее последовательные отрицали загробную жизнь и считали рай и ад состояниями человеческой души. Человек, познавший Бога и несущий в себе Святой Дух, уже находится в раю. Свободный дух означает преображение человека в Бога. Согласно надписи, найденной в 15 веке в отшельнической келье на Рейне, «Совершенный человек и есть Бог […] Он достиг того же союза с Богом, какой Христос имел со своим Отцом […] Он является и Богом, и человеком»[26]. Состояние богоподобия достигалось годами аскетической жизни, в ходе которой ученик приобщался к разным мистическим, психологическим и эротическим техникам.
Половой акт с тем, кто возвысился в духе, не является грехом, — таков повторяющийся мотив европейских либертинов от эллинистических гностиков 2 века до швабских еретиков 13-го, до английских рантеров 17 века и, наконец, до русских хлыстов 19 века. Инквизитор 14 века записывал такие, например, изречения еретика: «Тот, кто знает, что его ведет Бог, не творит греха»; «Ничто не является грехом, кроме того, что рассматривается как грех»; «Человек, который имеет совесть, является дьяволом и живет в адских муках»; «Все, чего желает моя природа, я делаю […] Я человек природы»; «Пусть лучше целый мир будет разрушен и погибнет, чем свободный человек откажется от одного из тех желаний, к которым влечет его природа»
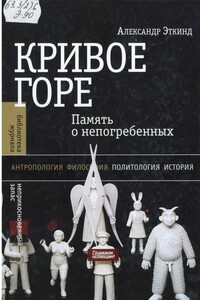
Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.
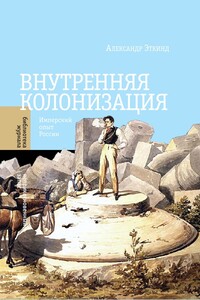
Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.
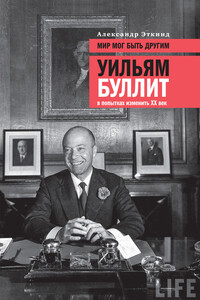
Уильям Буллит был послом Соединенных Штатов в Советском Союзе и Франции. А еще подлинным космополитом, автором двух романов, знатоком американской политики, российской истории и французского высшего света. Друг Фрейда, Буллит написал вместе с ним сенсационную биографию президента Вильсона. Как дипломат Буллит вел переговоры с Лениным и Сталиным, Черчиллем и Герингом. Его план расчленения России принял Ленин, но не одобрил Вильсон. Его план строительства американского посольства на Воробьевых горах сначала поддержал, а потом закрыл Сталин.

Эта книга о путешествиях за океан, реальных или вымышленных, в течение двух веков. Путешественник ищет Другое; писатель рассказывает о себе. Двойной фокус порождает смысловые игры, выявляемые в параллельных чтениях. Фокус этой книги переходит от утопий к геополитике, от ностальгии к шпионажу, от авторства к инцесту. Чтения Александра Эткинда меняют восприятие самых известных текстов западной традиции, от «Демократии в Америке» до «Бледного огня», и самых известных героев русской истории, от декабристов до Троцкого.
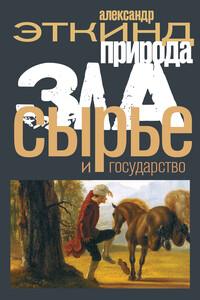
Это книга фактов и парадоксов, но в ней есть мораль. Текст соединяет культурную историю природных ресурсов с глобальной историей, увиденной в российской перспективе. Всемирная история начиналась в пустынях, но эта книга больше говорит о болотах. История требует действующих лиц, но здесь говорят и действуют торф и конопля, сахар и железо, мех и нефть. Неравномерность доступных ресурсов была двигателем торговли, и она же вела к накоплению богатств, росту неравенства и умножению зла. У разных видов сырья – разные политические свойства, и они порождали разные социальные институты.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.