Хлеба и зрелищ - [65]
В саду валялись подушки и пепельницы, которые Карла швырнула из окна, но я не осмелился их поднять, я прошел мимо них, миновал ворота, перебрался на другую сторону улицы и быстро зашагал; я шагал до тех пор, пока не очутился вне пределов досягаемости.
Только на мосту я остановился. Закурил, прикрывая ладонью огонек спички. Уже тогда я понял, что для меня теперь окончательно отрезаны все пути к старому. Появился новый мощный фактор. Нас разлучил поступок Берта на беговой дорожке, один его шаг, который навсегда покончил с Дорном, навеки «победил» его. Теперь к этому прибавилось мое нежелание, моя неохота стать очевидцем роковых событий, страх перед тем, что когда-нибудь судьба призовет меня в качестве свидетеля. Мое единственное желание было отвернуться, закрыть глаза. Только бы избежать ужасной перспективы стать свидетелем!
Да, в ту пору я боялся стать тем, кем уже фактически давно был — свидетелем жизни Берта. Ничего я так не страшился, как того, что какое-нибудь событие вынудит меня свидетельствовать за Берта Бухнера или против Берта Бухнера. Слишком близко я его знал. А равнодушие, которое я к нему испытывал, казалось мне не столь уж надежным. И все это я понял в ту ночь после посещения Карлы, в ту ночь на мосту. Но я понял и другое — необходимость предпринять нечто, дабы покончить с прошлым, дабы вырваться из заколдованного круга, из круга, который включал как свидетеля и меня. Да, я должен был, так сказать, отряхнуть прах от своих ног…
И тут у меня возник план написать его историю, впервые зародилась мысль рассказать о судьбе бегуна, круг за кругом. Я задумал рассказать историю Берта, рассказать о его беге ради спасения собственной жизни. Решил написать эту книгу потому, что необходимо было понять его, понять себя. Я хотел понять, как образовалось магнитное поле, затянувшее нас, словно мы были железными опилками. Я хотел все осмыслить, понять, чтобы забыть.
Вот первый круг. Начало всего: тень бегуна под прямыми лучами солнца. Только тень. Тень бегуна, падающая на стену и странно надломленная в том месте, где стена соприкасается с землей. Кажется, будто ноги отделились от туловища.
Первая точка отсчета совершенно ясна, а стало быть, ясна и последняя точка. Между этими точками пролегла история Берта. Когда я буду ее пересказывать, в душе моей проснутся самые противоречивые чувства, даже ненависть. Все эти чувства я с радостью приемлю, если только они помогут мне обрести ясность.
Я непременно приступлю к этой истории, может быть, даже сегодня; ведь мне вовсе не обязательно знать конец, а главное, вовсе не обязательно придерживаться привычной последовательности; я могу описывать события совсем в другом порядке, в зависимости от их важности для меня лично. Поступая так, я всегда буду иметь в перспективе конец, единственно мыслимый конец.
…Неужели уже прозвучал звонок, возвестивший о начале последнего круга?
Нет, нет, впереди еще целых два круга. Можно подумать, что преимущество Берта заколдованное, ведь ни Хельстрём, ни Сибон до сих пор не предпринимают попыток обойти его. Неужели они не идут на обгон только из-за благоразумия?
Сколько же надо иметь благоразумия, убежденности, веры в себя, чтобы даже сейчас, на предпоследнем круге, не поддаться соблазну, приберечь силы и не стараться обогнать Берта!
Я вижу фотографов, которые собираются у финиша, вижу одетых в белое секундометристов, восседающих на своих узких крутых лесенках. А вот и Ларсен; в красной куртке он похож на редиску; рядом с ним распорядитель, в руках у него белая лента, которую за несколько минут до конца соревнований протянут между двумя столбиками. К беговой дорожке не спеша подтягиваются толкатели ядра и прыгун с шестом, оба запястья у него перетянуты бинтами. Взгляды присутствующих все настойчивей устремляются к финишу. Кто придет первым? Кто разорвет белую ленточку? Да, сегодня, наверное, будет установлен новый рекорд. Если Берт не сойдет с дистанции, он поставит новый европейский рекорд. Нет, он обязательно сойдет с дистанции, замедлит темп, отстанет от других. Разве не так?
Разве он не должен заплатить за то, что начиная с первого круга подверг свое сердце и легкие чудовищным перегрузкам?
Но Берт все еще на двадцать метров впереди Хельстрёма и Сибона; он вытянул шею, словно курица, пьющая воду. Он уже не ударяет всей ступней о дорожку, только часть его ноги касается дорожки; сейчас он похож на человека, переносящего тяжести, на человека, которого непосильный груз пригибает к земле. И он уже не делает эти свои короткие шажки, при которых казалось — его ступня вколачивала в дорожку облачка пыли. Что это? Он пошатнулся? Может быть, от порыва ветра, ударившего в грудь?
Какое у него измученное лицо? О чем он думает? Думает ли он о Викторе и о многочисленных преследователях, появившихся тогда на горизонте? Вспоминает ли намеренно те мгновения смертельного ужаса? Вспоминает ли их, чтобы быть уверенным в том, что выложился до конца? Но, возможно, смертельный ужас не такое уж радикальное средство, как Берт думает. Что будет с ним тогда? Что будет с ним, если свободный, не омраченный страхом бег даст более высокие результаты, нежели бег ради спасения от опасности? Что будет, если тайная стратегия Берта себя не оправдает? Не верю я в то, что от смертельного страха в человеке просыпаются неведомые силы!

Автор социально-психологических романов, писатель-антифашист, впервые обратился к любовной теме. В «Минуте молчания» рассказывается о любви, разлуке, боли, утрате и скорби. История любовных отношений 18-летнего гимназиста и его учительницы английского языка, очарования и трагедии этой любви, рассказана нежно, чисто, без ложного пафоса и сентиментальности.

Талантливый представитель молодого послевоенного поколения немецких писателей, Зигфрид Ленц давно уже известен у себя на родине. Для ведущих жанров его творчества характерно обращение к острым социальным, психологическим и философским проблемам, связанным с осознанием уроков недавней немецкой истории. "Урок немецкого", последний и самый крупный роман Зигфрида Ленца, продолжает именно эту линию его творчества, знакомит нас с Зигфридом Ленцем в его главном писательском облике. И действительно — он знакомит нас с Ленцем, достигшим поры настоящей художественной зрелости.

Роман посвящен проблемам современной западногерманской молодежи, которая задумывается о нравственном, духовном содержании бытия, ищет в жизни достойных человека нравственных примеров. Основная мысль автора — не допустить, чтобы людьми овладело равнодушие, ибо каждый человек должен чувствовать себя ответственным за то, что происходит в мире.
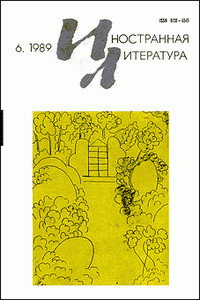
Рассказы опубликованы в журнале "Иностранная литература" № 6, 1989Из рубрики "Авторы этого номера"...Публикуемые рассказы взяты из сборника 3.Ленца «Сербиянка» («Das serbische Madchen», Hamburg, Hoffman und Campe, 1987).
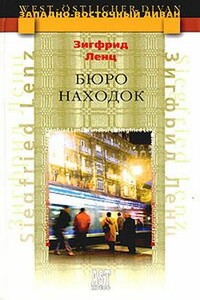
С мягким юмором автор рассказывает историю молодого человека, решившего пройти альтернативную службу в бюро находок, где он встречается с разными людьми, теряющими свои вещи. Кажется, что бюро находок – тихая гавань, где никогда ничего не происходит, но на самом деле и здесь жизнь преподносит свои сюрпризы…

«Мастер короткой фразы и крупной формы…» – таков Сол Беллоу, которого неоднократно называли самым значительным англоязычным писателем второй половины XX века. Его талант отмечен высшей литературной наградой США – Пулитцеровской премией и высшей литературной премией мира – Нобелевской. В журнале «Vanity Fair» справедливо написали: «Беллоу – наиболее выдающийся американский прозаик наряду с Фолкнером». В прошлом Артура Заммлера было многое – ужасы Холокоста, партизанский отряд, удивительное воссоединение со спасенной католическими монахинями дочерью, эмиграция в США… а теперь он просто благообразный старик, который живет на Манхэттене и скрашивает свой досуг чтением философских книг и размышляет о переселении землян на другие планеты. Однако в это размеренно-спокойное существование снова и снова врывается стремительный и буйный Нью-Йорк конца 60-х – с его бунтующим студенчеством и уличным криминалом, подпольными абортами, бойкими папарацци, актуальными художниками, «свободной любовью» и прочим шумным, трагикомическим карнавалом людских страстей…
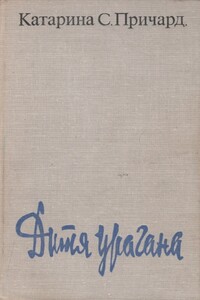
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА Имя Катарины Сусанны Причард — замечательной австралийской писательницы, пламенного борца за мир во всем мире — известно во всех уголках земного шара. Катарина С. Причард принадлежит к первому поколению австралийских писателей, положивших начало реалистическому роману Австралии и посвятивших свое творчество простым людям страны: рабочим, фермерам, золотоискателям. Советские читатели знают и любят ее романы «Девяностые годы», «Золотые мили», «Крылатые семена», «Кунарду», а также ее многочисленные рассказы, появляющиеся в наших периодических изданиях.

Жан Жене с детства понял, что значит быть изгоем: брошенный матерью в семь месяцев, он вырос в государственных учреждениях для сирот, был осужден за воровство и сутенерство. Уже в тюрьме, получив пожизненное заключение, он начал писать. Порнография и открытое прославление преступности в его работах сочетались с высоким, почти барочным литературным стилем, благодаря чему талант Жана Жене получил признание Жана-Поля Сартра, Жана Кокто и Симоны де Бовуар. Начиная с 1970 года он провел два года в Иордании, в лагерях палестинских беженцев.

«Отныне Гернси увековечен в монументальном портрете, который, безусловно, станет классическим памятником острова». Слова эти принадлежат известному английскому прозаику Джону Фаулсу и взяты из его предисловия к книге Д. Эдвардса «Эбинизер Лe Паж», первому и единственному роману, написанному гернсийцем об острове Гернси. Среди всех островов, расположенных в проливе Ла-Манш, Гернси — второй по величине. Книга о Гернси была издана в 1981 году, спустя пять лет после смерти её автора Джералда Эдвардса, который родился и вырос на острове.Годы детства и юности послужили для Д.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
