Хатынская повесть - [10]
Вот так, кажется, и Глашу вначале воспринимал. Почти так. Но она не замечала тайной, заговорщицкой доброты моей, опеки, нашего тройственного союза не замечала. До самой встречи на той поляне, где красные кузнечики разлетаются, брызжут из-под ног.
… Эти искры, эти быстрые точки на черном экране моей слепоты — иногда мне кажется, что это не осколочки боли, что они оттуда, с нашей поляны. На поляне я бывал и прежде, и не раз искал своего Геринга, но красных кузнечиков не замечал, хотя, конечно, они там были все лето.
А лето уже на исходе, влажный и теплый лес пропах грибами, черникой, жирной гнилью, как старый погреб. Постукивает дятел. Сначала почудится — далекий пулемет. Вслушаешься — нет, близко, дятел старается. Бой будет не сегодня, а только к утру. Непосредственный мой начальник Сашка сидит в лагере, смазывает пулемет, моя же забота — лошади, телега. Что-то серьезное, раз пойдут тачанки. В кустах через поляну вижу серую спину нашей пристяжной. Значит, и Геринг где-то здесь. Я занялся орехами. Их столько завязалось, что можно вслепую, на ощупь рвать: нагнешь ветку и комкаешь суховатые, покалывающие ладонь листья, пока не нащупаешь твердую тяжелую гроздь, гронку. От зеленой ореховой мякоти во рту кисло и прохладно…
Орешник сначала затащил меня в темную лесную чащу, а затем вывел, вытолкал на поляну уже в другом ее конце.
И тут я услышал плач: женский, потом детский…
Я уже вижу лежащую под дубом Глашу, ее вздрагивающую под черным шелком узенькую спину, а сам все недоумеваю: но где же плачущий ребенок? И тут ее глухое женское рыдание перешло в детское всхлипывание. Лежит под дубом на жестких, выпирающих из земли корнях-ребрах женщина в длинном шелковом платье и захлебывается детскими слезами. Сапожки поставлены у изголовья, и на них аккуратно развешены, сушатся портянки. А босые ноги сердито вздрагивают от комариных или муравьиных укусов.
Глаза мои жадно и испуганно рассматривали женскую белизну, мертвенно проявленную черным шелком. Глаша вдруг села, поджав ноги, и схватила сапожки.
— А, это ты… — сказала, точно всего лишь Геринг из кустов выломился.
— Коня ищу, — объяснил я свое существование на свете. Как аккуратно сапожки стояли возле нее, плачущей!
Уже после войны Глаша вспоминала: «Иду через весь лагерь, разговариваю, если кто затронет, смеюсь, хохочу, но сама иду плакать. Уже лагерь позади, никто меня не видит, но я все не плачу, спешу на свою поляну, к дубу. Добежала, стаскиваю сапоги, устраиваюсь, портянки развешиваю просушить — все, теперь удобно, хорошо! — и, наконец, даю волю слезам, долго удерживаемым, а потому сладким».
То, что испуганная, заплаканная Глаша почти дурнушка — губы распухли, глаза потухшие, сердитые, — меня очень трогает. Точно ради меня подурнела, потускнела специально, чтобы мне проще было с нею, легче. Благодарный за такую щедрую, добрую ее некрасивость (даже носом хлюпает, как пацан), я стою, не ухожу, развлекаю ее соображениями насчет завтрашнего боя. Значит, крупный гарнизон, раз мы с тачанками идем! Это хорошо, что силу покажем. Давно про блокаду новую поговаривают (осень, за урожаем полезут), а отряд наш на самом выступе партизанской зоны. Надо раздвинуть этот выступ, и вообще засиделись…
— Я не хожу на операции, — говорит Глаша, не дослушав моих рассуждений, — я же командирша!
Смотрит, точно это я обозвал ее так.
— Ну и дураки!
Я охотно согласился. Само собой, ясное дело…
— Ну и можете целоваться со своим командиром. А у меня будет ребеночек. Хоть тресните все от злости!
Я испуганно покосился, точно это сейчас произойдет. Что-то во мне такое, в долговязой и вялой моей фигуре, благодаря чему Глаша меня совсем не стесняется.
— И правильно, — радуюсь я, — это вы здорово придумали. Война окончится, а у вас…
Я мог бы сказать «у нас»: я охотно принимал ее к нам, в тот фантастический мир, где мы с Косачем задушевные друзья и нам Глаша не помеха.
— «Здорово придумали!» — передразнила Глаша мой восторг. — Дурачок ты.
Но смотрит так, точно просит еще раз повторить мою глупость. А я на это скор:
— Будешь мама!
Словом этим я как ударил ее: вдруг мучительно покраснела, отвернулась, схватилась обувать сапоги.
— Да, командир наш, конечно… — волоку я и подаю Глаше кончик оборванного разговора. — Война пройдет…
— Думаешь, я не знаю, что у вас в каждой деревне по «теще»?
И снова — как ударилась ушибленным местом, даже застонала. Поднялась и пошла через поляну. А я все никак не могу оставить этот разговор, по-дурацки волоку его следом за нею, говорю, говорю. Глаша молчит почти враждебно, и я тоже замолкаю наконец.
Она впереди, я шагах в десяти сзади, идем меж старых, осевших штабелей. Теплая кислая гниль щекочет ноздри. До войны тут заготавливали дрова. Березовые, осиновые, грабовые плахи догнивают, слежавшиеся, слипшиеся, облитые мыльной пеной.
Меж штабелей толстый ковер из молодого, плотного, стелющегося грабняка. Брось камень — подскочит, как на резине. Глаша ступает медленно, задумчиво. Грабняк такой плотный, что приходится балансировать на одной ноге, отыскивая местечко, куда поставить другую, и от этой, наверное, позы ей делается все веселее. Опять балет, как тогда с ведром.
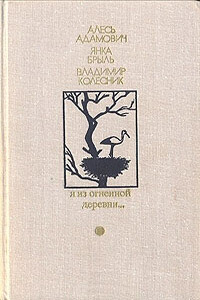
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Видя развал многонациональной страны, слушая нацистские вопли «своих» подонков и расистов, переживая, сопереживая с другими, Алесь Адамович вспомнил реальную историю белорусской девочки и молодого немецкого солдата — из минувшей большой войны, из времен фашистского озверения целых стран и континентов…
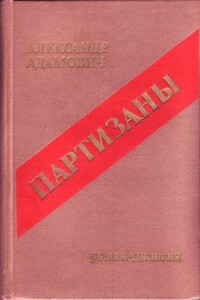
«…А тут германец этот. Старик столько перемен всяких видел, что и новую беду не считал непоправимой. Ну пришел немец, побудет, а потом его выгонят. Так всегда было. На это русская армия есть. Но молодым не терпится. Старик мало видит, но много понимает. Не хотят старику говорить, ну и ладно. Но ему молодых жалко. Ему уж все равно, а молодым бы жить да жить, когда вся эта каша перекипит. А теперь вот им надо в лес бежать, спасаться. А какое там спасение? На муки, на смерть идут.Навстречу идет Владик, фельдшер. Он тоже молодой, ихний.– Куда это вы, дедушка?Полнясь жалостью ко внукам, страхом за них, с тоской думая о неуютном морозном лесе, старик проговорил в отчаянии:– Ды гэта ж мы, Владичек, у партизаны идем…».

В книгу Алеся Адамовича вошли два произведения — «Хатынская повесть» и «Каратели», написанные на документальном материале. «Каратели» — художественно-публицистическое повествование о звериной сущности философии фашизма. В центре событий — кровавые действия батальона гитлеровского карателя Дерливангера на территории временно оккупированной Белоруссии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Свою армейскую жизнь автор начал в годы гражданской войны добровольцем-красногвардейцем. Ему довелось учиться в замечательной кузнице командных кадров — Объединенной военной школе имени ВЦИК. Определенное влияние на формирование курсантов, в том числе и автора, оказала служба в Кремле, несение караула в Мавзолее В. И. Ленина. Большая часть книги посвящена событиям Великой Отечественной войны. Танкист Шутов и руководимые им танковые подразделения участвовали в обороне Москвы, в прорыве блокады Ленинграда, в танковых боях на Курской дуге, в разгроме немецко-фашистских частей на Украине.
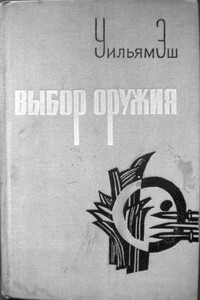
"Выбор оружия" — сложная книга. Это не только роман о Малайе, хотя обстановка колонии изображена во всей неприглядности. Это книга о классовой борьбе и ее законах в современном мире. Это книга об актуальной для английской интеллигенции проблеме "коммитмент", высшей формой которой Эш считает служение революционным идеям. С точки зрения жанровой — это, прежде всего, роман воззрений. Сквозь контуры авантюрной фабулы проступают отточенные черты романа-памфлета, написанного в форме спора-диалога. А спор здесь особенно интересен потому, что участники его не бесплотные тени, а люди, написанные сильно и психологически убедительно.

Рожденный в эпоху революций и мировых воин, по воле случая Андрей оказывается оторванным от любимой женщины. В его жизни ложь, страх, смелость, любовь и ненависть туго переплелись с великими переменами в стране. Когда отчаяние отравит надежду, ему придется найти силы для борьбы или умереть. Содержит нецензурную брань.

Книга очерков о героизме и стойкости советских людей — участников легендарной битвы на Волге, явившейся поворотным этапом в истории Великой Отечественной войны.

Предлагаемый вниманию советского читателя сборник «Дружба, скрепленная кровью» преследует цель показать истоки братской дружбы советского и китайского народов. В сборник включены воспоминания китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в СССР. Каждому, кто хочет глубже понять исторические корни подлинно братской дружбы, существующей между народами Советского Союза и Китайской Народной Республики, будет весьма полезно ознакомиться с тем, как она возникла.

