Ханеман - [64]
А тут еще Адам, страдальчески искривив лицо, принялся с панической скоростью объяснять, как было на самом деле. Вытянутой рукой целился в Стемских — то в Ментена, то в Бутра, — грозил кулаком, выкатывая голубоватые белки, возводил глаза к небу. Ксендз Роман перестал меня трясти, прищурился, и вдруг его прорвало: «Ах и немого тоже?! Ах и… — поспешил поправиться, увечного?! И тебе не стыдно!» Я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног, рванулся, пытаясь высвободиться из железных клещей, но ксендз Роман… Да, теперь я чувствовал, теперь я уже был уверен, что прекрасный образ готического храма, заставленного кощунственными лотками, храма, в котором длань Всевышнего обрушилась на безбожные затылки иудейских торговцев, открылся взору ксендза Романа — недаром громовой голос стих, померк, превратился в шепот, который всегда вселял в нас нешуточный страх: «Пусть мать с отцом придут ко мне завтра после вечерней мессы! — пальцы ксендза Романа скрутили мое ухо в горящую ракушку. — А ты сейчас посидишь в зале и подумаешь над тем, что сделал». Боль, стыд, унижение. Шуршащая сутана в молчании повела меня к приходскому дому, и лишь на секунду где-то над головами еще раз мелькнули слегка испуганные, язвительные физиономии моих «жертв».
Приходский дом при костеле цистерцианцев, некогда евангелический молитвенный дом… Никакой тебе барочной позолоты, гипсовых облаков, лучей, пальм, лент в стиле рококо, ангелочков — ничего похожего на весь этот чудесно-будуарный декор, в котором мы по воскресеньям перед главным алтарем Собора готовились к встрече с Всевышним. Ксендз Роман ввел меня в пустой прямоугольный зал с белыми как мел стенами, где стояли черные скамьи с готическими цифрами на пюпитрах, а затем, указав пальцем на висящее над доской распятие из черного дерева, закрыл за собой двустворчатую дверь и повернул в замке толстый ключ.
И тут, в белом зале, где — я это почувствовал — рядом со мной расселись безымянные и совершенно прозрачные важные, задумчивые тени единоверцев пастора Кнаббе, покидавшие свои места только на время папистских проповедей ксендза Романа, передо мною разверзлась бездна, в которую я еще никогда не заглядывал. Я рад был бы все понять и простить, но ведь ничего похожего на то, что произошло возле живой изгороди, на то, в чем принимали участие мы с ксендзом Романом, не было ни в Новом, ни в Ветхом Завете. Разве Господь устами пророков и апостолов говорил хоть где-нибудь о подобном происшествии? Я понимал, а вернее, испуганно бьющимся сердцем ощущал страдания святого Стефана, святого Павла, святой Цецилии, прекрасные страдания побиваемых камнями, распятых, истерзанных мучеников, над головами которых вспыхивает маленькое солнце, а с облаков под звуки ангельских труб плавно слетают пальмовые веточки, чтобы увенчать обагренные кровью виски, — но эта боль? Писание, куда мы заглядывали каждое воскресенье, то самое Писание, страницы которого, заложенные красной ленточкой, я аккуратно переворачивал, веря каждому слову, бросило меня на большой дороге, ничего не рассказав о том, как надлежит себя вести душе, попавшей в такой переплет, когда слезы смешиваются с мерзким, жгучим хихиканьем, со злыми вспышками чьих-то глаз; я остался один, покинутый, оскорбленный, униженный; стоя на коленях между рядами протестантских скамей, я беззвучно шевелил губами: «Почему?» Я не понимал. Ненависть? Нет, я вовсе не испытывал ненависти к ксендзу Роману (ну может быть, самую малость, вначале…), ведь не надо мной одним, а над нами обоими надсмеялось нечто, забавляясь моим бессилием и его неведением. Мы оба не виноваты и тем не менее наказаны; я не сомневался, что, едва ксендз Роман узнает, как оно было на самом деле, ему — после этой расправы со мной — станет страшно неловко.
Однако когда волна обиды и горечи застлала глаза слезами и их пелена на миг заслонила строгие контуры распятия с маленькой табличкой «I.N.R.I.»[47], я ударом кулака по пюпитру призвал старое доброе заклятие: «Ну нет! Нетушки!» Нет, я не помышлял о мести (кому, собственно, мстить?), меня потряс сам ход случившегося, в котором я не мог отыскать ни малейшего смысла и уж тем более логического обоснования вины, наказания или награды (в какой-то момент я услышал в себе коварный вопрос: «А если эта священная сила, которая понесла тебя на них, оттого обуяла тебя, что они и вправду слабее?» — но отогнал эту мысль как совершенно нелепую). Я не мог успокоиться. Глядя на черное распятие, я искал каких-нибудь аналогий, которые позволили бы поместить то, что произошло, в разумный мир взрослых, мудрый мир святого Стефана, Генисаретского озера, бегства в Египет, горящего Содома, и что-то во мне рождалось, медленно, с трудом, пока еще неясное, хрупкое и болезненное, и приказывало по-иному, не так, как раньше, смотреть на ту странную — по моим представлениям осторожность, с которой Ханеман раскладывал морские ракушки из далекой Японии, на ту нежную бережность, с какой он полировал серебро, на неспешные движения руки, водящей пером по бумаге или протирающей влажной тряпочкой листки герани. Раньше я считал все эти движения постыдно немужскими и едва ли не бессмысленными — и вдруг увидел в них тревожную, даже пугающую значительность.
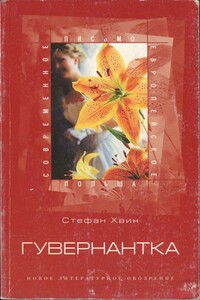
Стефан Хвин принадлежит к числу немногих безусловных авторитетов в польской литературе последних лет. Его стиль, воскрешающий традиции классического письма, — явление уникальное и почти дерзкое.Роман «Гувернантка» окружен аурой минувших времен. Неторопливое повествование, скрупулезно описанные предметы и реалии. И вечные вопросы, которые приобретают на этом фоне особую пронзительность. Образ прекрасной и таинственной Эстер, внезапно сраженной тяжелым недугом, заставляет задуматься о хрупкости человеческого бытия, о жизни и смерти, о феномене страдания, о божественном и демоническом…
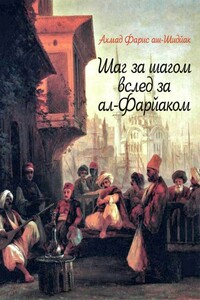
Представляемое читателю издание является третьим, завершающим, трудом образующих триптих произведений новой арабской литературы — «Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже» Рифа‘а Рафи‘ ат-Тахтави, «Шаг за шагом вслед за ал-Фарйаком» Ахмада Фариса аш-Шидйака, «Рассказ ‘Исы ибн Хишама, или Период времени» Мухаммада ал-Мувайлихи. Первое и третье из них ранее увидели свет в академической серии «Литературные памятники». Прозаик, поэт, лингвист, переводчик, журналист, издатель, один из зачинателей современного арабского романа Ахмад Фарис аш-Шидйак (ок.

Дочь графа, жена сенатора, племянница последнего польского короля Станислава Понятовского, Анна Потоцкая (1779–1867) самим своим происхождением была предназначена для роли, которую она так блистательно играла в польском и французском обществе. Красивая, яркая, умная, отважная, она страстно любила свою несчастную родину и, не теряя надежды на ее возрождение, до конца оставалась преданной Наполеону, с которым не только она эти надежды связывала. Свидетельница великих событий – она жила в Варшаве и Париже – графиня Потоцкая описала их с чисто женским вниманием к значимым, хоть и мелким деталям.

«Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, часто просто Martin Chuzzlewit) — роман Чарльза Диккенса. Выходил отдельными выпусками в 1843—1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящен знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс. На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса» (В.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.

Короткая связь богатого английского наследника и русской эмигрантки, вынужденной сделаться «ночной бабочкой»…Это кажется банальным… но только на первый взгляд.Потому что молодой англичанин безмерно далек от жажды поразвлечься, а его случайная приятельница — от желания очистить его карманы.В сущности, оба они хотят лишь одного — понимания…Так начинается один из самых необычных романов Моэма — история страстной, трагической, всепрощающей любви, загадочного преступления, крушения иллюзий и бесконечного человеческого одиночества…

«По ком звонит колокол» — один из лучших романов Хемингуэя. Полная трагизма история молодого американца, приехавшего в Испанию, охваченную гражданской войной.Блистательная и печальная книга о войне и любви, истинном мужестве и самопожертвовании, нравственном долге и непреходящей ценности человеческой жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Грозовой Перевал» Эмили Бронте — не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история роковой страсти Хитклифа, приемного сына владельца поместья «Грозовой перевал», к дочери хозяина Кэтрин не поддается ходу времени. «Грозовым Перевалом» зачитывалось уже много поколений женщин — продолжают зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...