Ханеман - [28]
По вечерам Ханеман иногда разбирал бумаги и переставлял книги на полках, но это занятие ему быстро надоедало. Тогда он садился в кресло у окна, открывал первую попавшуюся книжку и пытался читать. Однако это не всегда удавалось. Возможно, его отвлекали доносящиеся из сада голоса, а может быть, шум ветра или поскрипывание жестяного петушка, вращающегося на башенке дома Биренштайнов; так или иначе, блуждающие по страницам мысли разбегались куда хотели.
Нет-нет, это не было сентиментальным возвращением к людям и местам, к которым он прежде был привязан или даже любил. Когда-то, много лет назад, раздраженная чем-то мать сказала: «Похоже, у тебя нет сердца»; его это тогда сильно задело: слова матери, возможно вовсе не желавшей причинить ему боль, затронули в его душе нечто такое, что он от себя отталкивал, но что тем не менее украшало жизнь. Теперь же, когда он сидел вот так у окна, а солнце уже опускалось на верхушки сосен и черных елей, в груди у него, казалось, разливается холодная пустота; в этом ощущении, которое вызывало в памяти смутный образ матери, обвиняющей его в бесчувственности, было что-то приятное, приносящее облегчение, чему он поддавался охотно, с удивительным для него самого безразличием. Будто ему снился сон, хотя глаза были открыты. Отсутствие людей, тишина, угасание дня — в стынущем вечернем свете он отчетливо чувствовал свою принадлежность к этому миру, и даже мягкие волны воздуха, плывущие из сада, казались осязаемыми; кожа, хотя он понимал, что это невозможно, ощущала не только прохладные касания ветерка, но и само движение прозрачной ясности, в которой кружились сверкающие пылинки.
Отсутствие людей? Напротив, их отдаленное неназойливое присутствие — прилетающие из-за окна вперемешку с просеянным листвой березы светом голоса — придавало одиночеству приятную окраску. И звукам за окном вовсе не требовалось быть радостными. Нет, лучше, если они не сливались в полуденный шум города, а догорали в розовеющих лучах солнца и в шелест деревьев и постукивание чьих-то шагов по плитам тротуара врывался женский голос — мудрый женский голос (и дело было не в необычности слов, слова, как правило, бывали самые заурядные), звучный голос, которому из сада отвечал голос мальчика, кричащего, что ему еще не пора домой, или притворно хнычущей девочки: ведь еще рано и солнце, хотя уже и коснулось лесных крон, по-прежнему светит над Собором.
Тени за окном густели, движение в садах по обеим сторонам улицы Гротгера замирало. Пан Вежболовский закрывал за собой калитку, железо стукалось о столбик, сетка ограды тихонечко дребезжала; потом, когда он поднимался по бетонным ступенькам к дому Биренштайнов, его тень скользила по белой занавеске в окне веранды, потому что пани Янина, дожидаясь возвращения мужа с шоколадной фабрики «Англяс», уже зажгла лампу, хотя облака потемнели еще только над Вжещем, а небо над парком было подсвечено солнцем. Из окна на втором этаже пани В., упершись локтями в вышитую подушечку, смотрела на детей, которые возвращались с луга около костела цистерцианцев[27], неся воздушного змея из серой бумаги на перекрещивающихся рейках каркаса: длинный веревочный хвост, украшенный бумажными бантиками, с шуршаньем волочился по земле. В конце улицы под липами сыновья пани С. колотили железным прутом по мостовой, высекая голубоватые искры, но звон железа, ударяющего по гранитным и кремневым булыжникам, теперь никого не раздражал (в полдень было бы иначе), ведь даже пан Длушневский, поливавший левкои и георгины из большой жестяной лейки, если и восклицал время от времени: «Дали бы наконец покой!», возмущался не слишком громко, больше для порядка, нежели из желания прервать игру, которая — в чем можно было не сомневаться — в детстве и ему доставляла немалую радость.
Иногда, впрочем, прошлое возвращалось, и на месте пана Длушневского, поливающего цветы из большой жестяной лейки, Ханеман видел Эмму Биренштайн в длинном присборенном платье, причесанную как Рут Вайер в «Тайниках души» Пабста, срезающую тонким серебряным ножиком светлые гладиолусы, а в окне, из которого теперь выглядывала пани В., — Розу Шульц в бежевой чалме, в шелковой светло-зеленой блузке, несущую на чердак корзину со свежевыстиранным бельем. Однако горечи при этом он не испытывал. В чужеродности людей, заселивших дома между трамвайной линией и буковыми холмами (а люди эти действительно были ему чужими), было что-то умиротворяющее, заглушавшее тревогу в сердце. В минуты, когда на верандах и в садах замирали слова и жесты, когда хотелось остановиться на дорожке и, прикрыв глаза ладонью, смотреть на большое красное солнце над лесом позади Собора, в минуты, когда ослабевала ненасытная жажда жизни и ненависть уступала место уверенности, что ничто не нарушит сна, — в такие минуты все у него внутри тихо оседало, точно тонкие слои пепла.
А потом, около шести, когда в глубине квартала начинали бить колокола Собора, к которым присоединялись, всегда чуть запаздывая, колокола костела цистерцианцев, и этот отдаленный звон увязал в густой листве лип, груш и яблонь, заглушая уже стихающий уличный гомон, перед глазами вновь возникали знакомые места, дома, комнаты, лица, но душу не трогали картины города, которого больше нет, — память будто лишь небрежно тасовала побуревшие фотографии перед тем, как швырнуть в огонь. «Нельзя так жить!» — вдруг возвращались слова Анны. Но сейчас — не то что раньше! — слова эти не могли его ранить. А почему, собственно, нельзя так жить? Ханеман откладывал книжку, которую — раскрытой — держал на коленях, и, полузакрыв глаза, прислушиваясь к шороху пластинчатых листьев березы, ощущая под пальцами шершавую зелень матерчатого переплета, позволял вовлечь себя в эту игру образов прошлого, очищенного от всего, что причиняет боль. Теперь, когда пятнышки солнечного света и тени веток все медленнее колыхались на фасаде дома Биренштайнов, не только он, но и все вокруг застывало в сонной полужизни, будто раздумывая, что избрать: томительные желания или смерть. И даже — так ему казалось, — даже сердце замедляло свой безостановочный бег. Звуки, шорохи, все прекрасное и чуждое поселялось в душе лишь на миг, ибо память, без труда избавляясь от навязанной ей — как ему представлялось — докучливой обязанности хранить увиденное и услышанное, не замутняла чистоты впечатлений. Он ощущал в себе пустоту, но то не была пустота, вызывающая страх, то была добрая пустота, когда ничто не отгораживает нас от сути вещей.
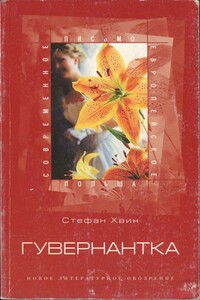
Стефан Хвин принадлежит к числу немногих безусловных авторитетов в польской литературе последних лет. Его стиль, воскрешающий традиции классического письма, — явление уникальное и почти дерзкое.Роман «Гувернантка» окружен аурой минувших времен. Неторопливое повествование, скрупулезно описанные предметы и реалии. И вечные вопросы, которые приобретают на этом фоне особую пронзительность. Образ прекрасной и таинственной Эстер, внезапно сраженной тяжелым недугом, заставляет задуматься о хрупкости человеческого бытия, о жизни и смерти, о феномене страдания, о божественном и демоническом…

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

Другие переводы Ольги Палны с разных языков можно найти на страничке www.olgapalna.com.Эта книга издавалась в 2005 году (главы "Джимми" в переводе ОП), в текущей версии (все главы в переводе ОП) эта книжка ранее не издавалась.И далее, видимо, издана не будет ...To Colem, with love.

В истории финской литературы XX века за Эйно Лейно (Эйно Печальным) прочно закрепилась слава первого поэта. Однако творчество Лейно вышло за пределы одной страны, перестав быть только национальным достоянием. Литературное наследие «великого художника слова», как называл Лейно Максим Горький, в значительной мере обогатило европейскую духовную культуру. И хотя со дня рождения Эйно Лейно минуло почти 130 лет, лучшие его стихотворения по-прежнему живут, и финский язык звучит в них прекрасной мелодией. Настоящее издание впервые знакомит читателей с творчеством финского писателя в столь полном объеме, в книгу включены как его поэтические, так и прозаические произведения.

Иренео Фунес помнил все. Обретя эту способность в 19 лет, благодаря серьезной травме, приведшей к параличу, он мог воссоздать в памяти любой прожитый им день. Мир Фунеса был невыносимо четким…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений.

Короткая связь богатого английского наследника и русской эмигрантки, вынужденной сделаться «ночной бабочкой»…Это кажется банальным… но только на первый взгляд.Потому что молодой англичанин безмерно далек от жажды поразвлечься, а его случайная приятельница — от желания очистить его карманы.В сущности, оба они хотят лишь одного — понимания…Так начинается один из самых необычных романов Моэма — история страстной, трагической, всепрощающей любви, загадочного преступления, крушения иллюзий и бесконечного человеческого одиночества…

«По ком звонит колокол» — один из лучших романов Хемингуэя. Полная трагизма история молодого американца, приехавшего в Испанию, охваченную гражданской войной.Блистательная и печальная книга о войне и любви, истинном мужестве и самопожертвовании, нравственном долге и непреходящей ценности человеческой жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Грозовой Перевал» Эмили Бронте — не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история роковой страсти Хитклифа, приемного сына владельца поместья «Грозовой перевал», к дочери хозяина Кэтрин не поддается ходу времени. «Грозовым Перевалом» зачитывалось уже много поколений женщин — продолжают зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...