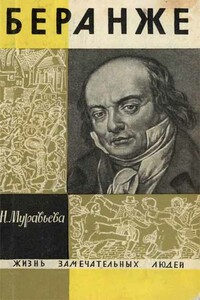Гюго - [102]
И Говэн вступает на зыбкий путь. Накинув на Лантенака свой плащ, он отпускает его на свободу, а сам остается в темнице. Греза о милосердии, акт великодушия и всепрощения оборачивается предательством. Это сознает и герой и сам автор, и от этого им обоим особенно больно.
На следующий день Говэн прямо говорит об этом на суде:
— Вот что: одно заслонило от меня другое; один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети — они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин; я забыл Францию, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен…
Он сам произнес свой приговор, ясный и недвусмысленный. Симурдэн голосует за казнь Говэна. Ночью он идет к узнику.
В последний раз сталкиваются два искателя абсолюта. Да, Симурдэн в глазах автора тоже своеобразный искатель абсолюта, фанатик революционного долга, который во имя настоящего, во имя победы высокой идеи сознательно ограничивает себя, не дает заманчивой мечте вторгнуться в суровую реальность.
— Ты витаешь в облаках, — говорит Симурдэн.
— А вы погрязли в расчетах, — отвечает Говэн…
— Говэн, вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.
— Берегитесь, как бы возможное не стало невозможным.
— Возможное всегда осуществимо.
— Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?
— Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реальности. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, но зато приобретет в полезности; пусть она станет не столь широкой, зато станет вернее…
Но Говэна уже нельзя вернуть к реальности. Он ушел в свои мечты о будущем, и они заслонили от него настоящее. Гюго понимает это, он осудил Говэна его же устами, но он понимает и чувствует красоту его несбыточных мечтаний. Перенести, наперекор истории, идеал далекого будущего в суровое настоящее, об этом мечтает его герой. Совместить несовместимое. И эта дилемма здесь еще трагичнее, чем в «Отверженных».
Гюго дает слово Говэну.
«Так будем же всегда смотреть в сторону зари, рассвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить… Пусть каждый век совершает свое деяние; ныне гражданское, завтра просто человеческое».
«— Я хотел бы основать республику духа, — мечтает Говэн.
…— А пока чего ты хочешь? — спрашивает Симурдэн.
— Того, что есть.
— Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?
— Да.
— Почему?
— Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает целый лес. Цивилизация была покрыта гнойными язвами; великий ветер несет ей исцеление».
Еще раз, в последний раз сам мечтатель признал правоту реальности. И все-таки он не может оторваться от своей мечты.
Идеал человечности раскалывается, у него два лица: грозное, беспощадное лицо реальности и просветленное, всепрощающее лицо далекой мечты. Как это мучительно для мечтателя, жаждущего абсолюта!
Говэн с улыбкой уходит из жизни, он поднят на пьедестал, но не оправдан.
И железный Симурдэн тоже ушел из жизни: в минуту казни Говэна он покончил с собой.
Но победу ли Говэна означает этот выход в смерть?
Всю жизнь ведет Гюго сам с собой мучительный спор.
Вечное или преходящее? Общечеловеческое или злоба дня? Идея всепрощения или борьба отверженных, их справедливый бунт? Единое раскололось на две половины, два абсолюта. И пока идеал будущего остается для мечтателя неким абсолютом, пока он не сольется до конца с борьбой за будущее в настоящем, выход из лабиринта не может быть найден, хотя впереди и маячит ослепительный свет «Коммуны будущего».
«Свет, всегда свет!» (1873–1878)
Летом 1873 года роман о революции закончен, и писатель возвращается в Париж. Туда зовет многое — и борьба за амнистию, и хлопоты, связанные с изданием книги, и, главное, тяжелая болезнь сына; надежды на его выздоровление уже нет.
Франсуа Виктор умер 26 декабря 1873 года.
«Еще один надлом и самый страшный в моей жизни. Теперь у меня остались только Жорж и Жанна», — записывает Гюго в дневнике.
Он пишет книгу «Мои сыновья». Хоть в книге, в воспоминаниях воскресить их, увидеть живыми и дать увидеть их другим, наперекор смерти. Нет, никогда он не станет певцом смерти, отчаяния, никогда, несмотря на все потери, похороны, раны и надломы.
«Я, как лес, который много раз вырубали, но молодые побеги все крепнут и живут, — говорит он о себе. — Вот уже полвека, как мысли мои запечатлеваются в стихах и прозе, но мне кажется, что я еще не успел выразить и тысячной части того, что есть во мне».
Жить. Жить тысячами жизней — это и есть настоящая жизнь поэта. Еще в годы изгнания Гюго создал «Эпопею червя» для своей «Легенды веков». Червь — мрачный могильщик миров, олицетворение торжествующего «ничто». Все преходяще, все погибнет, превратится в прах, сгинет в темной бездне небытия, говорит червь. Злорадный гимн червя — о, это заманчивая философия для склонивших голову, безвольных, остановившихся, для тех, кто отрекся от будущего, кто не способен увидеть мир в его вечном обновлении. Червь точит и разрушает, но человек живет для того, чтобы созидать.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.
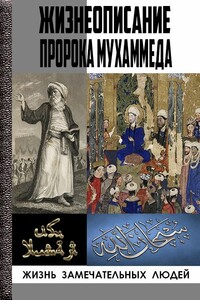
Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.
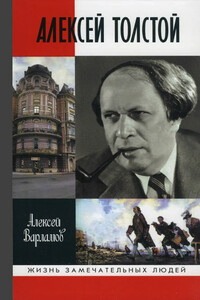
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.