Гудериан - [5]
На раннем этапе вызревания прусского милитаризма, культа, который, как современная Спарта, процветал под покровительством Герхарда Шарнхорста, спасителя армии после 1806 года, и его знаменитых преемников – Карла фон Клаузевица, Альбрехта фон Роона и Гельмута фон Мольтке-старшего, семья Гудерианов принадлежала к числу его гражданских сторонников. Такие люди прозябали в относительной бедности юнкерской аристократии и поддерживали военные приготовления из чувства, которое будущий начальник штаба Пауль фон Гинденбург назвал «безысходностью». Естественно, они не были лишены и чувства патриотизма, позволявшего, например, совершить правительственный переворот, при условии, что монарх не будет возражать.
Отец Гейнца Гудериана слишком хорошо познал безысходность. Бабушка рано осталась вдовой с шестью детьми. Чтобы обеспечить детям достойную жизнь, она была вынуждена продать фамильное поместье Хансдорф Нетц в Вартегау. (Гудерианы и по сей день чтят узы родства и придают им первостепенное значение.) Экономить приходилось буквально на всем. Однако, несмотря на то,, что такой шаг был немалой помощью семейному бюджету, в 1872 году юный Фридрих по собственному желанию отправился в кадетский корпус. Его учеба там начиналась в то время, когда еще не успели отзвучать бравурные марши в честь величайшей победоносной кампании Мольтке, в тот момент, когда военная мощь Пруссии находилась в своей наивысшей точке, и Мольтке был занят внедрением технических инноваций. Старая знать противилась этому, а Фридрих Гудериан аккуратно укладывался в схему Мольтке: разбавление старой армейской касты вливанием кадров из средних классов, чтобы заполнить вакансии в технических родах войск. К 1872 году представители титулованной знати составляли лишь две трети офицеров генерального штаба. Во всех вооруженных силах число офицеров – выходцев из среднего класса – неуклонно возрастало. Прежде всего, это касалось войск, где техника играла главную роль, включая саперные, о которых шутили: человек погружается с каждым шагом все глубже и глубже, пока не становится сапером.
Однако Фридрих Гудериан начал службу в легкой пехоте, лейтенантом 9-го егерского батальона, в армии, где наибольшим почетом пользовалась кавалерия, за ней шла гвардейская пехота, легкая пехота и лишь затем артиллерия. Легкая пехота, как и кавалерия, была самой быстрой и мобильной частью вооруженных сил, строившихся на основании доктрины Мольтке – победа в войне достигается за счет высокой мобильности наступательных действий. Придя в армию неоперившимся птенцом, еще не успевшим испытать на себе воздействие традиционных представлений, учивших во всем слепо следовать уставу, Фридрих приветствовал каждое дыхание перемен, и его вовсе не шокировали такие типичные для Мольтке изречения, как «не стройте больше укреплений, стройте железные дороги». Это чувство открытости всему новому с течением времени он передал своим сыновьям.
Год 1888 был очень важным, как для Фридриха Гудериана, так и для Германии. В октябре 1887 года Гудериан женился, а 17 июня 1888 года Бог осчастливил его и его жену Клару рождением первого сына, Гейнца. За два дня до этого, 15 июня на трон взошел новый монарх, кайзер Вильгельм II, и вскоре неприкрыто агрессивная Weltpolitik – мировая политика – сменила хитроумные дипломатические тенета канцлера Бисмарка.
Было бы неверно полагать, что в 90-е годы Германия жила в атмосфере войны. Разумеется, Франция после 1871 года жаждала реванша, а на немецких верфях вовсю кипела работа – Германия намеревалась бросить серьезный вызов британскому военно-морскому превосходству. И все же германская торговля расширялась; промышленные зоны и внешние признаки процветания в главных городах, вкупе с успехами в массовом образовании, начали вытеснять старый, обветшавший аскетизм. Изменение правительственной политики почти не коснулись Гудерианов. Те окунулись в обычную гарнизонную жизнь, как и положено молодоженам, занимающим определенную ступеньку в иерархическом обществе. В октябре 1890 года у Гейнца родился брат Фриц, а в следующем году семья переехала в эльзасский город Кольмар, где жила до 1900 года, когда Фридриха перевели в Сент-Авольд, в Лотарингию.
К тому времени и Гейнц, и Фриц твердо решили стать армейскими офицерами. Отец целиком и полностью одобрил выбор. Впрочем, сомневаться не приходилось, поскольку стесненные материальные обстоятельства заставляли считаться с собой. Кроме того, условия для получения образования в Сент-Авольде, где была школа-интернат, оставляли желать лучшего, в то время как в кадетских училищах в Германии преподавали современные предметы – французский, английский, математику и историю. С 1901 по 1903 годы Гейнц и Фриц посещали кадетское училище в Карлсруэ в Бадене. В 1903 году Гейнца перевели в главное кадетское училище в Гросс-Лихтерфельде, Берлин, где позднее к нему присоединился Фриц.
Здесь они попали под влияние прусской дисциплины в ее самой категорической и сложной форме. В противоположность абсурду внешних проявлений военного режима – мельчайших деталей муштры, мундиров и прочих формальностей – существовало внушение определенной философии и позиции, гибкость, которую не могут постичь те, кто наблюдает пруссачество только в его несгибаемой форме. Параллельно с единообразием обращения шло – главным образом в отношении офицеров – признание права и желательности выражения бескомпромиссных мнений, вплоть до момента отдания приказа. Таким образом, менталитет кадета формировался мыслью о необходимости признания абсолютного авторитета, и не только после того, как все аргументы будут исчерпаны. Можно заметить – здесь нет особого отличия от методов, применяемых в большинстве других армий. Безусловно, большинство других армий скопировало прусскую систему, и разница между ними лишь в степени этого копирования. Именно педантичная немецкая скрупулезность вызывала страх и ненависть у введенных в заблуждение противников. Внешне Гудериан сначала неохотно согласился с системой; его оговорки в отношении духа, если не буквы, позднее, в затруднительных ситуациях, окажутся весьма подходящими. Гибкость реагирования всегда была близка его мыслям и действиям. Гудериан не протестовал открыто, и его успеваемость улучшалась по мере того, как он развивал в себе интерес к предметам, навсегда покорившим его. В одной из своих книг он вспоминал своих инструкторов и преподавателей из Гросс-Лихтерфельде «…с чувством глубокой благодарности и уважения». Однако с инструкторами из военного училища в Меце дело обстояло не так. В 1907 году Гудериан писал: «Эта система не для честолюбивых людей – только для середнячков. Она занудна», – и добавлял, что находит своих старших начальников бесчувственными. Однако из того, что было написано о нем в конце курса, можно сделать вывод – серьезный и думающий о будущем кадет произвел на преподавателей неплохое впечатление. Честолюбивый и благородный, хороший наездник, он, по их словам, обладал сильным характером и обаянием, а также был «чрезвычайно заинтересован в своей профессии и очень прилежен». По иронии судьбы, Гудериан неважно отвечал на выпускном экзамене по тактике, выбрав оборонительный вариант вместо требуемого атакующего.
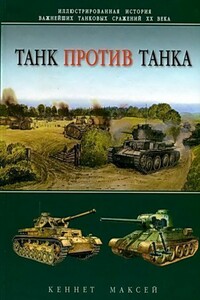
Книга «Танк против танка. Иллюстрированная история важнейших танковых сражений XX в.» – волнующее и глубокое исследование, в котором наглядно прослеживаются этапы эволюции танковых войск в XX веке. Это великолепное издание снабжено многочисленными фотографиями, схемами, диаграммами и специально для него выполненными панорамными иллюстрациями, на которых отражены ключевые моменты описываемых сражений. Написанная майором Кеннетом Максеем, бывшим офицером Королевского танкового полка, участвовавшего в боевых действиях в Европе, начиная с 1944 г., книга не разочарует как подготовленного читателя, так и того, кто лишь начинает свое знакомство с историей военного дела.Прим.
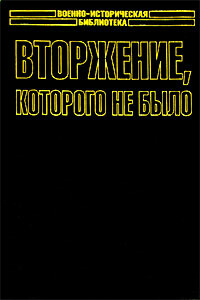
История не знает сослагательного наклонения. Но это вовсе не отменяет столь популярные сейчас исследования на тему: “Что было бы, если бы?..” Что было бы, если бы Гитлер осуществил вторжение в Англию? Что было бы, если бы в августе 41-го он бросил все свои силы на захват Москвы? История Второй мировой войны содержит бесчисленное множество подобных “развилок”, и их исследование — вовсе не никчемное любопытство. Анализируя прошлое, мы созидаем настоящее и изменяем будущее. “Альтернативы” — это не учебник с правильными или неправильными рецептами лечения уже отошедшей в прошлое болезни.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.
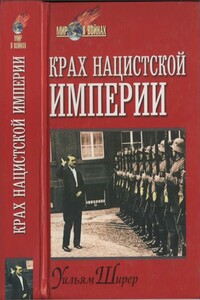
На основе обширных материалов, мемуаров и дневников дипломатов, политиков, генералов, лиц из окружения Гитлера, а также личных воспоминаний автор — известный американский журналист — рассказывает о многих исторических событиях, связанных с кровавой историей германского фашизма.
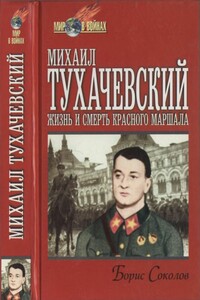
В лагере белой эмиграции Тухачевского считали беспринципным карьеристом, готовым проливать чью угодно кровь ради собственной карьеры. В СССР, напротив, развивался культ самого молодого командарма, победившего Колчака и Деникина. Постараемся же понять где истина, где красивая легенда, а где злобный навет…
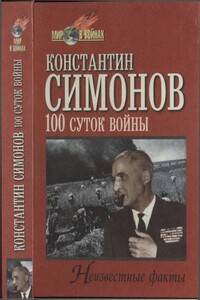
Ранее не публиковавшаяся полностью книга воспоминаний известного советского писателя написана на основе его фронтовых дневников. Автор правдиво и откровенно рассказывает о начале Великой Отечественной войны, о ее первых трагических ста днях и ночах, о людях, которые приняли на себя первый, самый страшный удар гитлеровской военной машины.
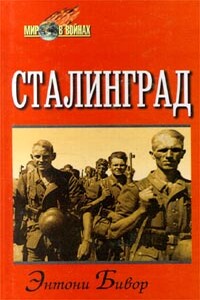
Сталинградская битва – наиболее драматический эпизод Второй мировой войны, её поворотный пункт и первое в новейшей истории сражение в условиях огромного современного города. «Сталинград» Э. Бивора, ставший бестселлером в США, Великобритании и странах Европы, – новый взгляд на события, о которых написаны сотни книг. Это – повествование, основанное не на анализе стратегии грандиозного сражения, а на личном опыте его участников – солдат и офицеров, воевавших по разные стороны окопов. Авторское исследование включило в себя солдатские дневники и письма, многочисленные архивные документы и материалы, полученные при личных встречах с участниками великой битвы на Волге.