«Гроза» Островского и критическая буря - [4]
Из произведений г. Островского оказывается, что у всего этого мира есть своего рода довольно обширная и весьма сложная цивилизация, которую надо знать даже для того, чтоб бороться с нею. Темным сторонам ее быта у г. Островского спуска нет. Нравственное безобразие остается у г. Островского всегда безобразием, и в этом отношении мудрено даже сыскать в русской литературе человека, который бы и сильнее и неутомимее бичевал дикие явления выводимого им общества. У нас есть даже очень пространные статьи об этом виде его деятельности, где собраны и пояснены все черты и оттенки необычайной картины извращения понятий, загрубения чувств, равнодушия к добру и правде, представленной им в своих произведениях.{19} Странное обвинение врагов г. Островского, что он писал эту картину, не подозревая всего ее безобразия или же сочувствуя ему – мы оставляем без внимания: обвинение само принадлежит к предметам, достойным войти в ее рамку. Но кроме создания типов, энергически выражающих относительную бедность морального смысла в том кругу, где они вращаются, – у г. Островского есть еще другая, художническая цель. Общим тоном, выражением и содержанием каждой своей комедии (за весьма малым исключением) он приводит читателя постоянно к вопросу о тайнах русской народности, а иногда, в лучших своих произведениях, дает возможность нащупать, так сказать, коренные основы русского быта, черты его особенного понимания правды и порядка и любимые мотивы его в области поэзии и творчества. Он за них не заступается и никому их не навязывает с рекомендациею: он заставляет их чувствовать, и больше ничего, но в том и тайная прелесть его созданий, какие бы лица там ни были выводимы. – Иногда во всей его комедии нет ни одного благородного, здравомыслящего лица: хаос понятий и нелепица царствуют безгранично над всеми действующими в ней, без исключения, и однако ж по образам, которыми они выражают свои нелепости, по полноте и наивности безрассудства, по иронии, как будто сознающей ужас и недостоинство общего нравственного положения – видно, что в них живет и та сила, которая нужна для выхода на свет и полного перерождения. Это не то, что испорченность и дикость провинциального или чиновничьего быта, которые беспомощны и могут кончиться только с концом расы, племени, ими вскормленных. Честное существо тут не один смех, а также и сила; с ней еще могут ужиться всевозможные надежды. Под редким из безобразных выводимых г. Островским типов не подложена какая-либо этнографическая черта, заслуживающая полного, весьма серьезного внимания, а как часто моральная неблаговидность лица является результатом падения, извращения и обеднения коренной основы народного быта, проживающей эпоху своего разложения!
У г. Островского безнадежна только старая закоренелая грубость, да еще испорченность, оторванная от народа и тем самым лишенная уже последних средств для спасения своего, – Липочка, Мерич, Харьков{20} и т. д., и проч.
Всеми этими особенностями, как г. Островский, так и еще два-три писателя наши, не говорю превышают (слово было бы крайне дерзко!), но рознятся с Гоголем, открывая новую дорогу в области творчества, указанную временем. Никогда не наступит пора перестать говорить о Гоголе, но пора перестать сравнивать его с новейшими деятелями наступила теперь. За его дорогим и громким именем начинают уже скрываться мало-помалу отсталые критики, указывающие на него, как на альфу и омегу всего, что можно и должно предпринимать в искусстве. Высоко комический и подчас глубоко страдающий, драматический мир Гоголя самостоятелен, окончен и замкнут в самом себе до того, что составляет нечто похожее на особенный народ между народом. Никто не знает – как он явился, куда и каким образом уйдет от нас, а когда автор хотел отвечать за него на эти вопросы, то, на наших глазах, запутался в противоречиях и недоразумениях. Дело в том, что весь этот мир образует чудную общину громадно-нелепых типов, которые потеряли память о своем происхождении, которые все принадлежат к изгоям, выходцам или не помнящим родства, похожи ещё на собратий, оставшихся за сценой действия, но живут только про себя и по собственным своим законам.[2] Без сомнения, Гоголь есть писатель глубоко народный, но он знал народ в ежедневном виде его и не видел народа с его уединенной и заветной душой: миру Гоголя чужды затаенные стремления народа, и шепотом передаваемые верования, и тихие, немые впечатления, волнующие его душу. Мир Гоголя связан со средой, из которой вышел, только одной общей чертой. Им обоим свойственно отсутствие логической последовательности в жизни, неспособность создать правильный вывод из чего-либо видимого и ощущаемого (в том и громадный комизм гоголевских лиц, по справедливому замечанию рецензии), но мир Гоголя бессмыслен и безлогичен по своей странной природе, а мир народной среды бессмыслен и безлогичен, потому что принужден рассуждать не о том, о чем у него есть потребность мыслить и где он весьма замечательный диалектик и мыслитель. Это разница, которую не следует выпускать из вида. Простота гоголевской задачи и цели, может быть, и помогла ему выстроить на нашей почве то великолепное здание, оконченное во всех частях своих, блестящее всеми своими сторонами, ясное и спокойное, которое останется его памятником; ныне это труднее. Задачи и цели сделались сложнее, постройки тем самым сделались менее соразмерны и менее непогрешительны. Все это естественно, как естественно и то, что любовь публики к этим менее поражающим сооружениям равняется любви, которую она питает к великолепному классическому памятнику, оставленному Гоголем. Попробуйте коснуться неуважительно к главным типам произведений Гончарова, Островского, Тургенева, Писемского – далеко не так полным, как типы Гоголя – вы встретитесь непременно с равнодушием и, пожалуй, с негодованием публики. Что это – слепота, увлечение, каприз нашего читающего мира? Нет – тут есть причина. Образы новейших деятелей, уступая, может быть, в классической стройности прежним образцам, захватывают гораздо более материала из народной жизни, чем они; глаз каждого мыслящего человека устремлен не только на выводимые лица, но и на далекую перспективу, открывающуюся за ними, а это в свою очередь поясняется тем, что в последних произведениях уже яснее слышатся коренные основы русского быта, его любимые мотивы из области поэзии, вместе с надеждами и стремлениями перерождающегося образованного общества. И сохрани нас Бог делать из этого обстоятельства нечто подобное триумфальной арке для наших современных писателей: они только орудия в руках приспевшего времени, между тем как Гоголь сам создал свое время. Это разница неизмеримая. Без Гоголя пришлось бы, может быть, ждать еще целое поколение нынешнего литературного движения, но оборачивать наших писателей опять к Гоголю, как делает рецензия по поводу г. Островского, или считать их более или менее талантливыми подражателями Гоголя, как другие делают, есть просто одно из печальных недоразумений.
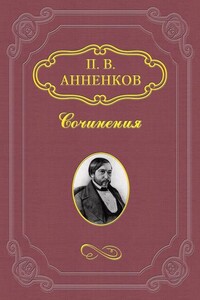
«…внешний биографический материал хотя и занял в «Материалах» свое, надлежащее место, но не стал для автора важнейшим. На первое место в общей картине, нарисованной биографом, выдвинулась внутренняя творческая биография Пушкина, воссоздание динамики его творческого процесса, путь развития и углубления его исторической и художественной мысли, картина постоянного, сложного взаимодействия между мыслью Пушкина и окружающей действительностью. Пушкин предстал в изображении Анненкова как художник-мыслитель, вся внутренняя жизнь и творческая работа которого были неотделимы от реальной жизни и событий его времени…».

Биография А. С. Пушкина, созданная Павлом Васильевичем Анненковым (1813–1887), до сих пор считается лучшей, непревзойденной работой в пушкинистике. Встречаясь с друзьями и современниками поэта, по крупицам собирая бесценные сведения и документы, Анненков беззаветно трудился несколько лет. Этот труд принес П. В. Анненкову почетное звание первого пушкиниста России, а вышедшая из-под его пера биография и сегодня влияет, прямо или косвенно, на положение дел в науке о Пушкине. Без лукавства и домысливания, без помпезности и прикрас биограф воссоздал портрет одного из величайших деятелей русской культуры.

«Несмотря на разнообразие требований и стремлений нашей современной критики изящного, можно, кажется, усмотреть два основные начала в ее оценке текущих произведений словесности. Начала эти и прежде составляли предмет деятельной полемики между литераторами, а в последние пять лет они обратились почти в единственный сериозный вопрос, возникавший от времени до времени на шумном поле так называемых обозрений, заметок, журналистики. Начала, о которых говорим, по существу своему еще так важны в отношении к отечественной литературе, еще так исполнены жизни и значения для нее, что там только и являлось дельное слово, где они были затронуты, там только и пропадали личные страсти и легкая работа присяжного браковщика литературы, где они выступали на первый план…».

«Н. Щедрин известен в литературе нашей, как писатель-беллетрист, посвятивший себя преимущественно объяснению явлений и вопросов общественного быта. Все помнят его дебюты в литературе: он открыл тогда особенный род деловой беллетристики, который сам же и довел потом до последней степени возможного ему совершенства. Его «Губернские очерки» доставили пресловутой Крутогорской губернии и городу Крутогорску такую же почетную известность, какой пользуются другие географические местности империи, существующие на картах…».

«И.С. Тургенев не изменил своему литературному призванию и в новом произведении, о котором собираемся говорить. Как прежде в «Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях», так и ныне он выводит перед нами явления и характеры из современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значению, но вместе и потому, что они помогают распознать место, где в данную минуту обретается наше общество…».

«…Всех более посчастливилось при этом молодому князю Болконскому, адъютанту Кутузова, страдающему пустотой жизни и семейным горем, славолюбивому и серьезному по характеру. Перед ним развивается вся быстрая и несчастная наша заграничная кампания 1805–1807 годов со всеми трагическими и поэтическими своими сторонами; да кроме того, он видит всю обстановку главнокомандующего и часть чопорного австрийского двора и гофкригсрата. К нему приходят позироваться император Франц, Кутузов, а несколько позднее – Сперанский, Аракчеев и проч., хотя портреты с них – и прибавим – чрезвычайно эффектные снимает уже сам автор…».
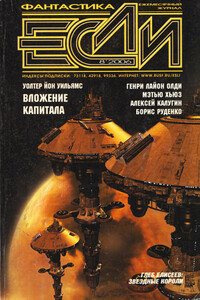
Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Это решительно лучшее из всех «драматических представлений» г-на Полевого, ибо в нем отразилось человеческое чувство, навеянное думою о жизни; а между тем г. Полевой написал его без всяких претензий, как безделку, которая не стоила ему труда и которую прочтут – хорошо, не прочтут – так и быть!…».

«…Не знаем, право, каковы английский и немецкие водвили, но знаем, что русские решительно ни на что не похожи. Это какие-то космополиты, без отечества и языка, какие-то тени без образа, клетушки и сарайчики (замками грешно их назвать), построенные из ничего на воздухе. В них редко встретите какое-нибудь подобие здравого смысла, об остроте и игре ума и слов лучше и не говорить. Место действия всегда в России, действующие лица помечены русскими именами; но ни русской жизни, ни русского общества, ни русских людей вы тут не узнаете и не увидите…».

«…К числу особенных достоинств статей, помещаемых в этом издании, должно отнести их совершенную соответственность и верность идее и цели: так, например, «Уральский казак» – это не повесть и не рассуждение о том, о сем, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в «Наших» читается, как повесть, имеющая все достоинство фактической достоверности…».

«Во все времена человеческой жизни, с тех пор как люди себя помнят, были войны. Войны, с тех пор как существуют государства, начинались правительствами, а кончались – борьбой сословий; бедные принимались бороться с богатыми. Богатые противились и не хотели уступать. Тогда начинались народные движения; более долгие и более мирные движения называются реформациями, а более короткие и более кровавые – революциями…».