Готическое общество: морфология кошмара - [9]
Читая «Мельмота-Скитальца», переполненного фантасмагорическими ужасами и красотами, читатель вправе задать себе вопрос: не сон ли то, что описывает автор, не страшный ли сон то, что происходит с его героями? Как мы помним, действие романа начинается с описания жуткого портрета Скитальца, созерцая который засыпает его полный тезка и племенник, Джон Мельмот, которого читателю поначалу так нелегко отличить от его дяди, который прочел рукопись, из которой мы узнаем часть истории Скитальца, и который спасает испанца, чтобы услышать из его уст вторую часть этой истории. Уж не юноше ли снятся все эти страшные сны?
Ибо задача Метьюрина состояла в том, чтобы воссоздать со всевозможной точностью пространство кошмара, в котором время организовано особым образом. Без этой «усложненной композиции» ему не удалось бы передать кошмар посредством слова, добиться его воплощения в литературе. Независимо от того, в какой мере он отдавал себе отчет в выборе выразительных средств — стихия кошмара навязала ему такой способ повествования. Особая темпоральность кошмара потребовала от него таких выразительных средств. Воспроизведение кошмара заставило Метьюрина добиваться создания этой особой темпоральности своего произведения.
В отличие от многих своих современников и предшественников, Метьюрин не пытался написать нарратив на готические темы, пересказать кошмар. Сравните произведение Метьюрина с обычным литературным рассказом о кошмаре, например сном Татьяны, в котором Пушкин передает нам только фабулу, но не заставляет нас в полной мере пережить чувства, испытанные во сне Татьяной. У Метьюрина была совсем другая задача — со всей возможной точностью передать переживание ментального акта во всей его полноте и непосредственности. Читателя захватывает разворачивающееся действие, но, несмотря на то что читатель успел глубоко погрузиться в него, оно в любой момент может оборваться и перетечь в другой сон, в другой кошмар. Единство замыслу придает личность Джона Мельмота — намеренно не до конца отделимого от его ужасного предка, Мельмота-Скитальца.
В чем особенность темпоральности кошмара? Что требуется для ее передачи? Прежде всего, отвечает Метьюрин, время кошмара обратимо и прерывно. К нему не применимы — или применимы с большой поправкой — категории настоящего, прошлого и будущего. Поэтому повествование обрывается, забегает вперед и возвращается вспять во времени. А как поступили бы вы, если бы перед вами стояла такая задача, уважаемый читатель? Но, поскольку Метьюрин остается пленником еще не «деконструированного» рассказа, время кошмара вынуждено встраиваться в темпоральность обычного нарратива. У текста Метьюрина обнаруживаются две темпоральности, два враждебных, взаимоисключающих способа восприятия времени: внутренняя темпоральность кошмара и внешняя — линейного и хронологически упорядоченного нарратива.
«Приведенная схема позволяет установить тот факт, обычно ускользающий от внимания читателей, что действие его начинается осенью 1816 года и заканчивается через несколько дней там же, где оно начинается, на берегу графства Уиклоу, в Ирландии»[35], — отмечает литературовед. Как видим, Метьюрину удается добиться решения двух, весьма существенных для него, задач: во-первых, по признанию критика, внешнее время нарратива «ускользает от внимания читателя», а во-вторых, время нарратива в 500 страниц оказывается сжатым до нескольких дней! Вполне вероятно, что Метьюрин стремился сжать это внешнее время еще сильнее, но ему это не удалось. Сто лет спустя, в эпоху начала острого кризиса объективного времени, с этой задачей гораздо успешнее справится Марсель Пруст, еще решительнее сдвинув рамки своего романа, в котором он тоже боролся с линейным временем мира. Ради того, чтобы воссоздать и передать особенность воспоминания как ментального акта, он сожмет линейный дискурс до нескольких мгновений. Ненормальное долголетие, которым Метьюрин награждает своего героя (Мельмот живет 150 лет), тоже может быть рассмотрено как попытка изменить обычное течение времени человеческой жизни и нарушить привычную темпоральность. Разрыв причинно-следственных, а часто — и хронологических связей выступает другим важным приемом, позволяющим передать собственное время кошмара.
Теперь мы можем ответить на вопрос: почему Мельмот — скиталец? Быть скитальцем Мельмоту необходимо для того, чтобы переноситься из истории в историю, из кошмара в кошмар, свободно двигаясь во времени вперед и назад, воссоздавая динамику собственного времени кошмара. Скиталец олицетворяет кошмар в двух смыслах — этическом и темпоральном, давая автору важное орудие для передачи кошмара художественным словом.
Можно с уверенностью сказать, что Метьюрин, воссоздав темпоральность кошмара, создал канонический текст, который продолжает — и будет продолжать — цитировать, хотя чаще всего анонимно, наша культура. Набор художественных приемов, разработанный Метьюрином, найдет себе широкое применение в творчестве авторов современного фэнтези. Не была ли темпоральность кошмара, воссозданная Метьюрином и встроенная им в линейное время повествования, первым откровением субъективного времени, которое сегодня завладело нашей культурой? Но в любом случае «Мельмот-Скиталец» стал важным эпизодом в истории экспериментов со временем.
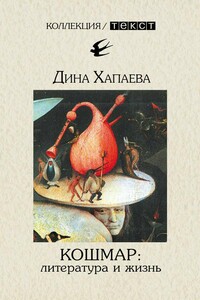
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях.
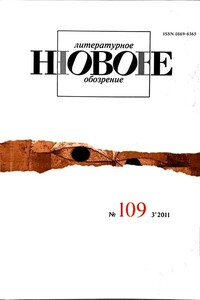
«Что говорит популярность вампиров о современной культуре и какую роль в ней играют вампиры? Каковы последствия вампиромании для человека? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье».

Эта книга посвящена танатопатии — завороженности нашего общества смертью. Тридцать лет назад Хэллоуин не соперничал с Рождеством, «черный туризм» не был стремительно развивающейся индустрией, «шикарный труп» не диктовал стиль дешевой моды, «зеленые похороны» казались эксцентричным выбором одиночек, а вампиры, зомби, каннибалы и серийные убийцы не являлись любимыми героями публики от мала до велика. Став забавой, зрелище виртуальной насильственной смерти меняет наши представления о человеке, его месте среди других живых существ и о ценности человеческой жизни, равно как и о том, можно ли употреблять человека в пищу.

«Непредсказуемость общества», «утрата ориентиров», «кризис наук о человеке», «конец интеллектуалов», «распад гуманитарного сообщества», — так описывают современную интеллектуальную ситуацию ведущие российские и французские исследователи — герои этой книги. Науки об обществе утратили способность анализировать настоящее и предсказывать будущее. Немота интеллектуалов вызвана «забастовкой языка»: базовые понятия социальных наук, такие как «реальность» и «объективность», «демократия» и «нация», стремительно утрачивают привычный смысл.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.