Готическое общество: морфология кошмара - [2]
Важно подчеркнуть, что политические решения по обе стороны Атлантики больше не исходят из партийной идеологии, которая перестала быть как сдерживающим, так и вдохновляющим источником политики. Говоря об упадке идеологии, я имею в виду не только и не столько упадок роли программных представлений об общественном благе, которым руководствовались — или должны были говорить, что руководствуются, — политические лидеры при принятии своих решений. Речь идет об отсутствии потребности у избирателей верить в необходимость ясной политической программы и разделять с политическим классом видение того, каким должно быть общество. То, что раньше преподносилось в качестве коллективной воли, теперь все больше приобретает статус сугубо индивидуального, субъективного видения будущего общества. Раскроем роман «Платформа» Мишеля Уэльбека: «В это время совсем рядом, у торгового центра в Эври, учинили побоище две бандитские группировки, в ход шли ножи, бейсбольные биты, баллончики с серной кислотой; к вечеру стало известно, что в драке погибли семь человек, из них — двое случайных прохожих и один жандарм»[1].
Преступностью в России никого не удивишь. Но давно ли стало привычным такое описание европейского города?
Или возьмите социологический опрос, посвященный так называемой «молодежной культуре». В нем говорится о повсеместном росте в современном обществе слоя населения, нормы поведения которого постоянно вступают в прямой конфликт с декларируемым консенсусом о порядке, законности, морали демократического общества. Тем не менее блюстителям закона не удастся ничего поделать с этой средой — даже представить «ненормальность» ее «асоциального» поведения как достойную осуждения в глазах общественного мнения.
И еще: можно не боясь, что вас поднимут на смех, взахлеб читать книжки про великих магов и вампиров, заколдованные мечи и волшебные кольца, гномов и драконов, а также всерьез обсуждать оккультные практики, синергетику и мистические учения. Вас не удивит, когда при вашем появлении в чайном магазине продавщица отложит томик «Призраки в замке: Английские готические рассказы», а в книжном, куда вы поспешите, чтобы купить такую нужную книжку окажется, что все, что связано с ведьмами, призраками, также как и сама эта книжица, только что вышедшая массовым тиражом, уже продано.
Из таких разрозненных мозаичных фрагментов складывается картина прорывов готического общества сквозь тонкую ткань привычной действительности. В нашу с вами обжитую повседневность. Мы больше не верим в способность старых учений — будь то марксизм, психоанализ, структурализм или христианство — объяснять социальный, политический и моральный опыт, но наш язык, как по волшебству, не находит слов, чтобы назвать — а значит, и понять — суть происходящих перемен. Немота, парализовавшая интеллектуалов, оборачивается неспособностью предложить новые объяснения и новые проекты, которые вызвали бы доверие общества.
Отсутствие новых слов и идей заставляет использовать старые понятия — феодализм, корпоратизм — для объяснения сегодняшнего дня. Но эти попытки обречены: вместо того чтобы помочь понять новую действительность, они подгоняют ее под себя, вкладывают в нее отжившие, чуждые ей смыслы.
Возьмем понятия «феодализм» или «неофеодализм». Действительно, некоторые современные экономические и социальные практики — например, приватизация функций государственной власти[2], упадок публичного пространства, личные отношения как основа общественной жизни — обладают определенным сходством со Средневековьем. Тем не менее понятие «феодализм», имеющее долгую традицию употребления для описания средневековья, отсылает к социально-политическому устройству общества, важнейшие черты которого не имеют ничего общего с современностью: например, связь между титулом и землей; особые формы зависимости крестьян от сеньоров, связанные, в первую очередь, с сельскохозяйственным трудом и натуральной формой хозяйства; доминирующая в культурной и общественной жизни роль религии, служившей основой морали, по сути, подменявшей собой мораль и т.д. Понятие «феодализм» неизбежно вызывает в нашем сознании — и не только у историков Средних веков — представление о традиционном аграрном обществе, обладающем жесткой социальной иерархией, основанной на древности рода, передаваемых по наследству привилегиях и земельной собственности. Оно заставляет вспомнить — и не только благодаря учебникам истории, но и живописи, средневековой литературе, современным историческим романам, наконец, историческим фильмам — о турнирах, королях, рыцарях, замках, монашеских орденах и об уровне технической неразвитости общества, которую трудно вообразить современному человеку. Старое понятие способно лишь заставить читателя иронически отнестись к тем тревожным тенденциям современности, к которым хочет привлечь внимание автор. Ибо всем понятно, что сейчас никакое не Средневековье.
Термин, таким образом, компрометирует серьезность диагноза. Такие понятия, сколь бы они ни рождали иллюзии сходства, идут вразрез со здравым смыслом, а значит, не до конца принимаются всерьез. Главное сходство между зловещими чертами нашей действительности и некоторыми средневековыми практиками — не в социальной или экономической организации общества, которую обозначает феодализм, а в эстетических и моральных категориях, которые питаются готическими аллюзиями. Всякому, даже вовсе далекому от истории человеку, понятно, что идеи гражданского общества, профессионализма, правового государства не могли существовать в эпоху феодализма. Для того чтобы показать, что они исчезают из практик современного общества, которое мы по привычке продолжаем называть демократическим, нужны новые понятия.
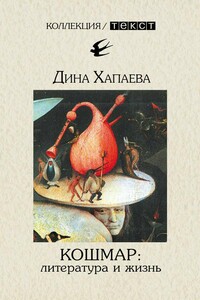
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях.
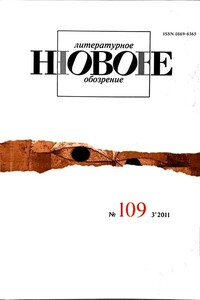
«Что говорит популярность вампиров о современной культуре и какую роль в ней играют вампиры? Каковы последствия вампиромании для человека? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье».

Эта книга посвящена танатопатии — завороженности нашего общества смертью. Тридцать лет назад Хэллоуин не соперничал с Рождеством, «черный туризм» не был стремительно развивающейся индустрией, «шикарный труп» не диктовал стиль дешевой моды, «зеленые похороны» казались эксцентричным выбором одиночек, а вампиры, зомби, каннибалы и серийные убийцы не являлись любимыми героями публики от мала до велика. Став забавой, зрелище виртуальной насильственной смерти меняет наши представления о человеке, его месте среди других живых существ и о ценности человеческой жизни, равно как и о том, можно ли употреблять человека в пищу.

«Непредсказуемость общества», «утрата ориентиров», «кризис наук о человеке», «конец интеллектуалов», «распад гуманитарного сообщества», — так описывают современную интеллектуальную ситуацию ведущие российские и французские исследователи — герои этой книги. Науки об обществе утратили способность анализировать настоящее и предсказывать будущее. Немота интеллектуалов вызвана «забастовкой языка»: базовые понятия социальных наук, такие как «реальность» и «объективность», «демократия» и «нация», стремительно утрачивают привычный смысл.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.