Господин мой — время - [6]
— Нога, нога, — говорила она задумчиво, идя с нами, уже подросшими и тоже стрижеными, по стриженому осеннему калужскому лугу, — ну что ж, в конце концов балерина тоже может быть порядочной женщиной. Я знала одну, в Сокольниках — у нее даже было шесть человек детей, и она была отличная мать, настолько образцовая, что даже дедушка однажды отпустил меня к ней на крестины… — И уже явно шутя (и мы это понимали): — Муся — знаменитой пианисткой, Ася (как бы проглатывая)… знаменитой балериной, а у меня от гордости вырастет второй подбородок. — И, вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью: — Вот мои дочери и будут «свободные художники», то, чем я так хотела быть. (Ее отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла только раз, вместе со стариком Поссартом, за год до его и своей кончины.)
…Но с нотами, сначала, совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? Клавиша есть, здесь, вот она, черная или белая, а ноты нет, нота на линейке (на какой?). Кроме того, клавишу — слышно, а ноту — нет. Клавиша — есть, а ноты — нет. И зачем нота, когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды, на заголовке поздравительного листа, данного мне Августой Ивановной для Gliickwunsch’a [8] матери, не увидела сидящих на нотной строке вместо нот— воробушков! Тогда я поняла, что ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, каждая на свою. Тогда она — звучит. Некоторые же, запоздавшие (как девочка Катя из «Вечерних досугов»: поезд, маша, уходит, а опоздавшие Катя с няней — плачут…) — запоздавшие, говорю, живут над ветками, на каких‑то воздушных ветках, но все- таки тоже спрыгивают (и не всегда впопад, тогда — фальшь). Когда же я перестаю играть, ноты на ветки возвращаются и так, как птицы, спят и тоже, как птицы, никогда не падают. Лет двадцать пять спустя они у меня все же упали и даже — ринулись:
Но нот я, хотя вскоре и стала отлично читать с листа (лучше, чем с лица, где долго, долго читала — только лучшее!), — никогда не полюбила. Ноты мне— мешали: мешали глядеть, верней не — глядеть на клавиши, сбивали с напева, сбивали с знанья, сбивали с тайны, как с ног сбивают, так — сбивали с рук. мешали рукам знать самим, влезали третьим, тем «вечным третьим в любви» из моей поэмы (которой по простоте — ее, или сложности — моей, никто не понял) — и я никогда так надежно не играла, как наизусть.
Но помимо всего сказанного, верного не только для меня, но для каждого начинающего, теперь вижу, что мне для нот было просто слишком рано. О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним — без всех, точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще… Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить— на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала и даже давила! — не давая улечься, умяться (нам — успокоиться), заливала и забивала с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание — как в уже не вмещающий сундук (кстати, оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь — самое ценное — для долыней сохранности от глаз, про запас, на тот крайний случай, когда уже «все продано», и за последним — нырок в сундук, где, оказывается, еще — всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) Мать точно заживо похоронила себя внутри нас — на вечную жизнь. Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, — то, чего всегда мало, дважды — мало: как мало голодному всего в мире хлеба, и в мире мало — как радия, то, что само есть — недохват всего, сам недохват, только потому и хватающий звезды! — то, чего не может быть слишком, потому что оно — само слишком, весь излишек тоски и силы, излишек силы, идущий в тоску, горами двигающую.
Мать не воспитывала — испытывала: силу сопротивления, — подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом — теперь— уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье — что не удалось, наше — что удалось!
После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом. Чтобы избыть ее дар — мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов.
Знала ли мать (обо мне — поэте)? Нет, она шла va banque, ставила на неизвестное, на себя — тайную, на себя — дальше, на несбывшегося сына Александра, который не мог всего не мочь.
Но все‑таки для нот было слишком рано. Если неполные пять лет вовсе не рано для букв, — я свободно читала четырех, и много таких детей знаю, — то для нот то же неполное пятилетие бесспорно и злотворно — рано. Нотно — клавишный процесс настолько сложнее буквенно — голосового, насколько сложнее сам клавиш — собственного голоса. Образно говоря: можно не попасть с ноты на клавишу, нельзя не попасть с буквы— на голос. И, совсем просто говоря: если между мной и клавиатурой вставали — ноты, то между нотой и мной — вставала клавиатура, постоянно теряемая — из‑за нотного листа. Не говоря уже о простом очевидном смысле читаемого слова и вполне — гадательном смысле играемого такта. Читая, перевожу на смысл, играя, перевожу на звук, который, в свою очередь, должен быть на что‑то переведен, иначе— звук пуст. Но когда же мне, пятилетней, чувствовать и это чувство выражать, когда я уже опять ищу: сначала глазами, на линейке, знака, потом, в уме, соответствующей этому знаку — ноты гаммы, потом — пальцем — соответствующей этой ноте клавиши? Выходит игра с тремя неизвестными, а для пятилетнего достаточно — одного, за которым еще, всегда, другое, которое есть только ввод в большее неизвестное, которое за всяким смыслом и звуком, в огромное неизвестное — души. Или уж — надо быть Моцартом!

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .

«… В красной комнате был тайный шкаф.Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета ...».
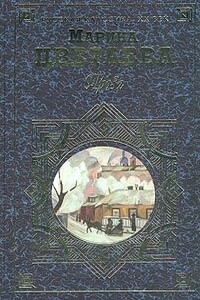
«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.

Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.
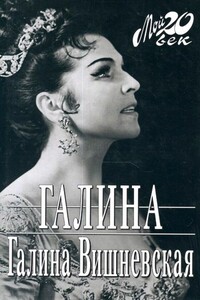
Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.

Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.

Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.