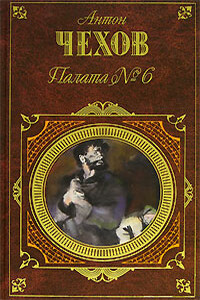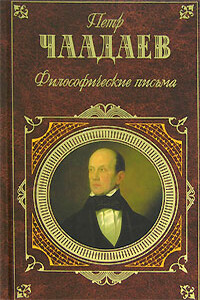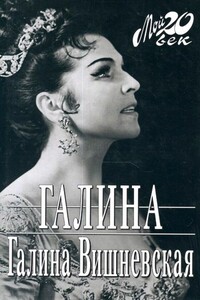Поэзия и правда Марины Цветаевой
«Быть современником — творить свое время, а не отражать его» — в этом Марина Цветаева видела главную цель своих произведений. Но творить свое время не означает выполнять «социальный заказ», — напротив: творить— вопреки заказам и указам. И чтобы мы ни взяли — стихи, прозу, критические статьи, эссе, — ее стиль свободен от всяких литературных течений и направлений, не подчинен требованиям времени. С самых первых дней и до конца она шла с ним в ногу, но не только как собеседник, а как сторонний наблюдатель, мыслящий, думающий, анализирующий, «творящий», и оттого смогла точно запечатлеть на бумаге происходящие события.
Время неслось стремительно — и в ее произведениях это передает напряженный, динамичный, сильно экспрессивный, переходящий в афористичный, стиль. Может быть, даже в большей степени это относится именно к прозе, чем к стихотворениям, которую Цветаева, кстати сказать, называла лирической, явно указывая на корни ее происхождения.
Сама цветаевская проза — явление в отечественной литературе уникальное. Она не писала рассказов, повестей, романов. У нее был некий собственный сплав нескольких жанров. Здесь никогда не встретить вымышленных героев, вымышленного сюжета. Цветаева рассказывала исключительно о том, что сама видела, помнила, переживала. О тех, с кем встречалась, о том, что сильно запало в душу. И в этом смысле вся ее проза автобиографична. Одновременно — высокохудожественна. Достаточно начать читать любую вещь — и сразу зазвучат живые голоса, предстанут перед глазами различные ситуации— бытовые и философские, житейские и поэтические.
Проза Цветаевой — не что иное, как биография души художника, творца. И к героям своих произведений она подходила так же: «Люблю не людей, но души, не события, а судьбы».
Проза как жанр (если не принимать во внимание дневники и письма) начинает занимать главное место в творчестве Марины Цветаевой лишь в 1930–с годы и причиной этому была совокупность многих обстоятельств, «бытовых» и «бытийных», внешних и внутренних. Сама она несколько раз заявляла: «Эмиграция делает меня прозаиком», имея в виду, что стихотворные произведения труднее устроить в печать («Стихи не кормят, кормит проза»), С другой стороны, не раз признавалась, что у нее остается все меньше душевного времени; прозаическая же вещь создается быстрее. Но главное не в этом: уйдя «в себя, в единоличье чувств», Цветаева хотела «воскресить весь тот мир», канувший в небытие, милый ее сердцу на расстоянии прошедших лет мир, который создал ее — человека и поэта.
В данной книге произведения расположены таким образом, чтобы читатель мог следовать за поэтом по вехам его внутренней жизни, а не по хронологии их создания.
Открывается сборник очерком «Мать и музыка», где явственно звучит тема рождения призвания — вопреки материнскому желанию. Психологический «экскурс» в детскую душу — в душу будущего поэта, который уже в пять лет не в силах полностью растворяться в навязываемых ему обстоятельствах. Девочку, по настоянию матери, учат играть на рояле, у нее данные: слух, музыкальность. Но природа, творческая ее природа восстает. Мать ошиблась, задумав сделать из дочери музыканта. Но она, сама того не ведая, сделала из нее поэта; она поила своих детей «из вскрытой жилы Лирики», торопилась передать им как можно скорее, как можно больше, «заливала и забивала с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание… И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика». Образ матери поэта, Марии Александровны Мейн, романтичный, драматичный, печальный и суровый, вырастает до символа. Жар ее души таился под оболочкой сугубой сдержанности, скрытности, — что не всегда, вероятно, понимала маленькая Марина, порою думавшая, что мать любит ее меньше, нежели младшую сестру. Однако не нужно художественное творение понимать буквально. Цветаевой важно нарисовать образ матери будущего поэта — поэта одинокого, с юных лет прикоснувшегося к драматизму жизни. Эту‑то тоску и одиночество поэт Марина Цветаева унаследовала именно от матери, о чем не раз писала. И в своей прозе дала, на основании были, фактов — поэзию, то есть художественное обобщение. «Фактов я не трогаю никогда, я их только — толкую», — девиз всей ее прозы. Читатель, казалось бы, вправе ожидать от автора более или менее точной. правды фак>: та — не вымышленные имена подталкивают к этому в первую очередь. Но нет, такой иллюзии поддаваться нельзя: самая большая ошибка — полагаться на прозу Цветаевой как на мемуарный источник. Потому что правда фактов постоянно и неукоснительно подвергается у Цветаевой творческому переосмыслению и становится «поэзией». Поэзия и правда — на нерушимом единстве этих двух понятий и основана автобиографическая и мемуарная проза Цветаевой.
Наравне с музыкой с самого детства будущего поэта создавала литература, о чем она писала в 1937 году, откликаясь на 100–летнюю годовщину со дня смерти А. С. Пушкина в очерке «Мой Пушкин». О великом поэте ее младенчества, о творце ее души, когда каждое его слово, поначалу не всегда понятное, с неотвратимостью судьбы давало свои «всходы», лепило характер девочки. И первым таким словом было — любовь. «Пушкин меня заразил любовью. Словом — любовь… Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь— любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь». Любовь в ее обреченности, любовь в ее гордости: цветаевская героиня первая идет на объяснение и первая — на разрыв, головы не обернув: так научила ее Татьяна Ларина. И — «свободная стихия» пушкинского «К морю», отождествившаяся со свободной стихией стиха. И еще благодаря Пушкину, по каким‑то неведомым причинам, с самых ранних лет вошло в ребенка ощущение кануна, за которым никогда не наступит день; ожидание — за которым никогда не наступит свершение. И еще — с чего и начинается очерк: Пушкин был первым ее поэтом, и ее первого поэта — убили. Поэтов всегда убивают, будь то пуля, самоубийство, — убивает сама жизнь, которая для поэта — непереносима. Это прозрение даровано было Цветаевой тоже Пушкиным. И кто знает, тогда, в 1941 году, в Елабуге, не думала ли она об этом…