Город будущего - [25]
— Кончится тем, быть может, что придется снова совершить революцию, — заметил Мишель.
— Все возможно, — отозвался Югнэн, — и это предположение не столь уж смешно. Но оставим философские разглагольствования и продолжим смотр. Вот тщеславный полководец, убивший лет сорок на то, чтобы доказать собственную скромность, — Шатобриан,[93] чьи «Замогильные записки» не смогли спасти его от забвения.
— Возле него я вижу Бернардена де Сен-Пьера,[94] — проговорил Мишель, — его прелестный сентиментальный роман «Поль и Виргиния» вряд ли бы теперь растрогал кого-нибудь.
— Увы! — вздохнул дядюшка Югнэн. — Поль, ставший бы сегодня банкиром, выжимал бы все соки из своих клерков, а Виргиния вышла бы замуж за сына фабриканта рессор для локомотивов. А вот, погляди! Знаменитые мемуары господина Талейрана,[95] вышедшие в свет, согласно его воле, только спустя тридцать лет после его кончины. Я уверен, что этот тип там, где теперь пребывает, все еще занимается дипломатией, но дьявола ему не провести! Вон там я вижу офицера, равно владевшего и саблей и пером, — великого эллиниста Поля Луи Курье,[96] писавшего на французском как современник Тацита.[97] Когда наш язык, Мишель, будет окончательно утерян, его смогут полностью восстановить по произведениям этого славного сочинителя. А вот Нодье, прозванный любезным, и Беранже[98] — государственный муж, сочинявший на досуге свои песенки. Наконец, мы подходим к блестящему поколению, вырвавшемуся на волю во времена Реставрации,[99] словно расшумевшиеся семинаристы на улицу.
— Ламартин,[100] — вставил Мишель, — великий поэт!
— Один из генералов Литературы образа, подобный статуе Мемнона,[101] чарующе звучавшей при касании солнечного луча! Бедный Ламартин! Во благо великих идей он промотал все свое состояние и вынужден был влачить нищенское существование в неблагодарном городишке, источая свой талант на кредиторов! Он освободил поместье Сен-Пуэн от разъедающей язвы ипотеки и умер с горя, видя, как земля его предков, где покоятся близкие ему люди, переходит к Компании железных дорог!
— Бедный поэт! — вздохнул молодой человек.
— Возле его лиры, — продолжал дядюшка Югнэн, — ты видишь гитару Альфреда де Мюссе.[102] На ней уже больше не играют. И надо быть давним почитателем поэта, вроде меня, чтоб услаждать свой слух бренчанием на ее спущенных струнах. Мы приблизились к оркестру нашей славной армии!
— А вот и Виктор Гюго! — воскликнул Мишель. — Надеюсь, дядюшка, вы причисляете его к великим полководцам!
— Его, мой мальчик, я помещаю в первую шеренгу. Это он размахивает на Аркольском мосту знаменем романтизма,[103] он выигрывает баталии при Эрнани,[104] Бургграфах,[105] Рюи Блазе,[106] Марион Делорм![107] В свои двадцать пять лет, подобно Бонапарту, он уже стал главнокомандующим и побивал австрийских классиков в каждом единоборстве. Никогда, сын мой, человеческая мысль не была столь могущественна, столь сконцентрированна, как в голове этого человека, этом горниле, способном выдержать самые высокие температуры. Я не знаю никого, ни в античности, ни в новые времена, кто бы превзошел его по силе и богатству воображения. Виктор Гюго — ярчайшая личность первой половины девятнадцатого столетия, глава школы, равной которой не будет никогда. Его Полное собрание сочинений выдержало семьдесят пять переизданий, и вот — последнее из них. Но и Гюго, дитя мое, подобно прочим авторам, увы, канул в Лету. Он ведь не истребил множества людей, так к чему же и вспоминать о нем!
— О дядюшка! — вновь воскликнул молодой человек, карабкаясь по лестнице. — Да у вас двадцать томов Бальзака!
— Ну конечно! Ведь Бальзак — первый романист мира, и многие из созданных им персонажей превзошли героев Мольера! Но в наши дни он не отважился бы создать свою «Человеческую комедию».
— Однако он мастерски описал человеческие пороки! — заметил Мишель. — У него немало героев настолько жизненных, что они неплохо вписались бы в нашу эпоху.
— Несомненно, — согласился старик. — Но где теперь бы он отыскал всех этих де Марсэ, Гранвиллей, Шенелей, Мируэ, Дю Геников, Монриво, кавалеров де Валуа, ла Шантери, Мофриньезов, Евгений Гранде и Пьеретт, чьи очаровательные образы олицетворяли благородство, ум, храбрость, милосердие, чистоту — он ведь не выдумывал их, а брал из жизни! Что же до образов людей алчных — охраняемых законом банкиров и амнистированных воров, то в них он не испытывал бы недостатка; от всех этих Кревелей, Нюсингенов, Вотрэнов, Корантэнов, Юло и Гобсеков отбоя бы не было.
— Мне кажется, — проговорил Мишель, переходя к другим полкам, — что здесь стоит значительный автор!
— Еще бы! — согласился Югнэн. — Это Александр Дюма, Мюрат от литературы: смерть прервала его работу над тысяча девятьсот девяносто третьим томом! Он был самым увлекательным рассказчиком, коему щедрая природа без малейшего для себя ущерба позволила расточать свой ум, талант, остроумие; он сумел воспользоваться всем — своей незаурядной физической силой, захватывая пороховой склад в Суассоне,[108] своим происхождением[109] и цветом кожи, путешествуя по Испании, Франции, Италии, Швейцарии, по берегам Рейна, в Алжире, на Кавказе, на Синайской горе и, особенно, врываясь в Неаполь на своем Сперонаре.
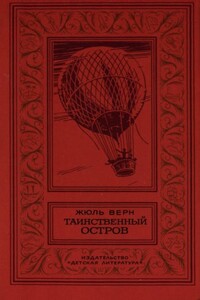
Роман, воплощающий мечты Жюля Верна об обществе, освобождённом от любых форм насилия, от эксплуатации. Книга полна веры в творческие возможности человека, в силу коллективного труда, во всепобеждающую науку.

Герои путешествуют по трем океанам, разыскивая потерпевшего кораблекрушение шотландского патриота — капитана Гранта. В произведении широко развернуты картины природы и жизни людей в различных частях света.Художник: П. Луганский.

В этой книге собраны исторические романы о России французских мастеров приключенческого жанра, почти неизвестные российскому читателю.Выступление декабристов, Крымская война, восстание в Сибири — пусть вымышленное, но столь похожее на народные бунты, потрясавшие Россию на протяжении XVI — XIX веков…Увлекательные события, драматические столкновения характеров, противостояние благородных стремлений к свободе и беззаветного выполнения долга, — все это помогает по-новому представить волнующее, порой трагическое прошлое нашего народа.

В романе «В погоне за метеором» космическое тело, состоящее из золота, едва не разрушило земную экономику. Метеор оказывается слишком большой ценностью в мире, стабильность которого держится на золотом запасе государств.

Книга рассказывает о кругосветном путешествии в морских глубинах на уникальном подводном корабле Наутилусе исследователя и изобретателя капитана Немо и его товарищей.

Ботанический эксперимент профессора Иванова перевернул всю экологию. Рассказ опубликован под рубрикой «Фантасты от 12 до 15».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Зачастую «сейчас» и «тогда», «там» и «здесь» так тесно переплетены, что их границы трудно различимы. В книге «Ахматова в моем зеркале» эти границы стираются окончательно. Великая и загадочная муза русской поэзии Анна Ахматова появляется в зеркале рассказчицы как ее собственное отражение. В действительности образ поэтессы в зеркале героини – не что иное, как декорация, необходимая ей для того, чтобы выговориться. В то же время зеркало – случайная трибуна для русской поэтессы. Две женщины сближаются. Беседуют.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В послесловии к 25-му тому собрания сочинений Жюля Верна Анатолий Москвин размышляет о причинах, побудивших писателя завершить свою "Историю географических открытий" на 30-40-х годах XIX века. Критически описан недостаток материалов о русских географических экспедициях. А. Москвин также вспоминает экспедиции и путешествия XIX века, которые по праву должны были быть включены в "Историю".
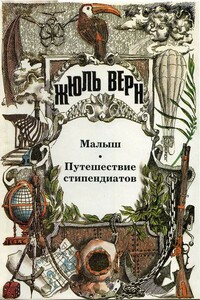
Стипендиаты конкурса одной из лучших лондонских школ в качестве награды получают возможность совершить путешествие через Атлантический океан к Антильским островам. Отличное судно, надежная команда, прекрасный капитан — все это сделает плавание приятным и безопасным. Однако, все пошло совсем не так как предполагалось...Роман дается в новом (1998) полном переводе.
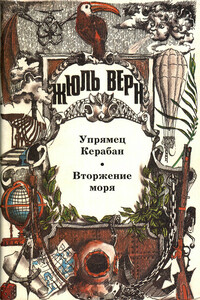
«Упрямец Керабан» — одна из самых увлекательных и веселых книг великого фантаста Ж. Верна. Приключения, описанные на ее страницах, происходят в Турции, в Крыму, на Кубани, в Грузии.
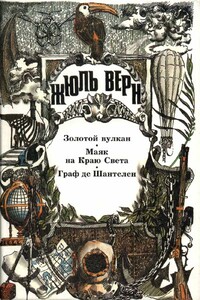
«Золотой вулкан» (1899) — одно из последних сочинений Ж. Верна, появилось одновременно с первыми рассказами Дж. Лондона. Навеянное «золотой лихорадкой», охватившей в те времена Америку, оно должно было стать книгой-предостережением для Мишеля Верна, любимого сына романиста, талантливого молодого человека с непростым характером.
