Горькая доля - [2]
А потом я пошел в школу. В те дни насильно вводили в моду фуражки с козырьком – пехлевийки. Считалось, что они символизируют прогрессивный, светский образ мыслей. И когда я в первый раз пошел в школу, на мне тоже была такая новомодная кепка. Днем, когда мы возвращались, на улице показалась кучка «возмутителей спокойствия». Поравнявшись с нами, они сорвали с меня фуражку, разодрали ее и затоптали: мол, всех, кто надел пехлевийку, ожидает та же участь. Я испугался и заревел. Мы пошли дальше и возле дома, на базаре, увидели еще одну стычку – двое полицейских вместе с двумя агентами в штатском рвали в клочья войлочную шапку. Бедный Мешхеди Асгар!
Тогда же – а может, пару месяцев спустя, точно не помню, – дядюшка заодно распрощался с шалью и абой. Длинные вьющиеся волосы не подходили к новому головному убору, пришлось постричься. Дядюшка горевал. Он привык засовывать руки под шаль. Без нее руки было некуда девать. И для чубука не стало места, пришлось перейти на трубку покороче. Как-то раз он сказал, что вот-вот, гляди, охолостят. Дядя Азиз отозвался: мол, тебя-то что холостить, и без того ни на что не годен. Дядюшка потом два дня у нас не показывался. Дома говорили, что он обиделся. На третий день он сам пришел, сказал, что соскучился по детям. Дядя Азиз услышал.
– Как бы не так; где этот трепач найдет место получше? – Но сказал он это шепотом.
Когда я стал ходить в школу, дядюшка поначалу целыми днями просиживал без дела в коридоре, или на улице, или на скамье у ворот, дожидаясь последнего звонка. Отлучался домой разве что по утрам, перед звонком на вторую перемену, и приносил мне чего-нибудь попить. В полдень мы уходили домой, а после обеда снова возвращались. Учился я неплохо. По вечерам готовил уроки. Писал при свете керосиновой лампы, а дядюшка сидел наготове. Чернильницы в ту пору были керамические, с золотисто-зелеными, цвета павлиньего пера, чернилами и кусочками мокрого шелка – для увлажнения. Нам не разрешалось сушить написанное над огнем лампы, и дядюшка осторожно дул на каждый листок. Потом заворачивал в платок полагавшийся ему ужин и уносил домой, жене.
Однажды вечером с холмов, расположенных на южной окраине города, внезапно донесся грохот оружейной пальбы. Он нарастал с каждой минутой. А тогда как раз ходили слухи про кашкайцев [6]. Говорили, что они против тегеранского правительства и вроде бы задумали взять город. И вот раздались и сразу зачастили, зачастили выстрелы, а никого из мужчин дома не было, только дядюшка. Джафар, наш повар, вечерами после заката уходил в мечеть, потом брал в лавке хлеб и возвращался домой. Его тоже не было, в доме остались одни женщины: мои мама и тетка, все три мои сестры, Рогайе и еще какая-то служанка (имени точно не помню, служанки у нас долго не задерживались). Дом был полон женщин и очень скоро наполнился криками. Вдали безостановочно шла стрельба, а у нас не переставая визжали. Там – пулеметные очереди, а тут – «О святые заступники!» да «О святейший Аббас!». Хватились дядюшки – его нет. Но женщины тут же сообразили, где искать. Боясь лишиться последнего защитника, они вдохновились на подвиг, хлынули во двор, настигли дядюшку у ворот и с воплями и проклятиями втащили «бессовестного труса» обратно в комнату. Операцию возглавляла моя тетка, вместе с Рогайе и той второй служанкой. Дядюшка кричал, что жена его дома совсем одна, а наши осыпали бранью и его самого, и его супругу. Дядюшка твердил, что он им не раб купленный, и получал в ответ, что не помнит хлеба-соли. Тетка взывала к святой крови Хасана и Хусейна [7], желая Мешхеди Асгару ослепнуть на оба глаза и лишиться обеих рук. Я ревел. Беспрерывно слышались выстрелы, так что брань и проклятия постепенно сменились возгласами ужаса. Дядюшка среди всего этого приговаривал: «Ох, несчастный я человек! Старуха там одна-одинешенька!» Пальба между тем продолжалась, под аккомпанемент жалобных «Господи, помилуй!» и «Святейший имам, защити!». Вдруг в дверь постучали. Женщины так и замерли от ужаса – кто там? Ни одна не тронулась с места. Наконец моя тетка в ярости закричала: «Асгар, ты что, оглох?» Дядюшка пошел открывать. Это оказался Джафар, и дядюшка уже не вернулся. Он пулей помчался домой. Потом пришел отец. В ту ночь стреляли до утра. Лишь когда за цветными стеклами окна забрезжил рассвет, стрельба стала стихать, совсем почти смолкла и наконец замерла. Наступило утро, и я наконец заснул.
На следующий день я проснулся поздно. Выяснилось, что война уже кончилась, правительство одержало победу, ну а кашкайцы отступили. Во дворе топтался дядюшка. Потом появился дядя Азиз и, выслушав историю дядюшкиного предательства – он, мол, пытался бросить наших женщин на произвол судьбы, к жене хотел сбежать, – сорвался на крик. Ругался он разнообразно – и «сукин сын», и «трепло поганое», и даже «грязный сводник». Про «грязного сводника», помню, я услышал впервые. Дядюшка в ответ только молчал. С тех пор я невзлюбил дядю Азиза.
Потом, через неделю-другую, отец мой уехал в Исфахан. Тетка или мама, впрочем, кажется, все-таки тетка, решила доказать мне, что отец не единственный властелин в доме, и нажаловалась школьному надзирателю: от рук отбился, сущий чертенок, пусть-ка отведает палок по пяткам. Хотя какой там чертенок, я тогда был тише воды. И вдруг меня, ни о чем не подозревающего, схватили, скрутили и уложили на скамью. Ноги мне стиснули петлей и подтянули кверху, что меня скорее смешило, чем пугало. Но гранатовый прут быстро уговорил заплакать. В тот день, после звонка на большую перемену, прибежав к выходу, чтобы попить, я спросил у дядюшки, за что мне всыпали.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.В романе "Тайна сокровищ Заколдованного ущелья" автор, мастерски используя парадокс и аллегорию, гиперболу и гротеск, зло высмеивает порядки, господствовавшие в Иране при шахском режиме.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.

В предлагаемый читателям сборник одного из крупнейших иранских писателей Эбрахима Голестана вошло лучшее из написанного им за более чем тридцатилетнюю творческую деятельность. Заурядные, на первый взгляд, житейские ситуации в рассказах и небольших повестях под пером внимательного исследователя обретают психологическую достоверность и вырастают до уровня серьезных социальных обобщений.
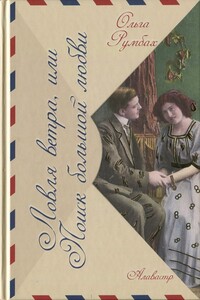
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Шестеро молодых парней и одна девушка – все страстно влюбленные в музыку – организуют группу в надежде завоевать всемирную известность. Их мечтам не суждено было исполниться, а от их честолюбивых планов осталась одна-единственная записанная в студии кассета с несколькими оригинальными композициями. Группа распалась, каждый из ее участников пошел в жизни своим путем, не связанным с музыкой. Тридцать лет спустя судьба снова сталкивает их вместе, заставляя задуматься: а не рано ли они тогда опустили руки? «Французская рапсодия» – яркая и остроумная сатира на «общество спектакля».
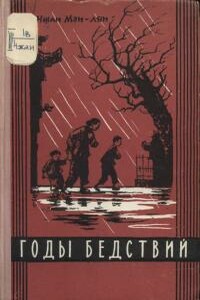
Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.
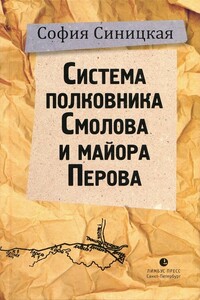
УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
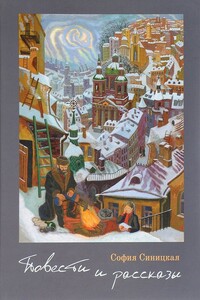
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
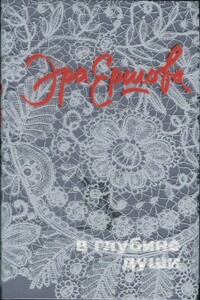
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.