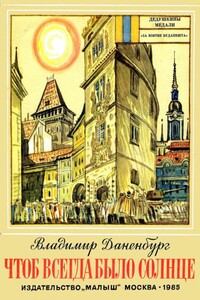Голос солдата - [84]
Митька высыпал девчушке в подол комки каши, черствые ломти хлеба, куски сахара. Кое-что из «добра», упало на перрон. Продавщица «варэнои картопли», не отрывая преданного взгляда от лица своего благодетеля, ощупью собирала куски хлеба, запылившиеся комочки сахара, рассовывала по карманам. Сказала: «Дякую, дядечка» — и, прихватив непосильно тяжелое ведро, моментально исчезла под вагоном…
Эта голодная девчушка из разоренного украинского города была для нас с Митькой как бы олицетворением той жизни, в которую мы въезжали в вагоне санпоезда. Для чего нас привезли на родину? Здесь и без такой ни на что не годной публики людям жить негде, кормиться нечем. А нас, искалеченных, требующих забот, внимания, пищи, везут, чтобы посадить им на шею. И ведь этот наш санпоезд не единственный. Таких эшелонов, переполненных беспомощными инвалидами, сейчас движется на родину черт знает сколько. Кому мы нужны?
Я задавал себе эти вопросы, понимая, что так рассуждать непозволительно и, само собой разумеется, так никто о нас не думает. Вспоминал себя здоровым, когда сам смотрел на инвалидов, потерявших руки, ноги, зрение, с мистическим ужасом. Но ведь никогда не приходила мне в голову мысль, что им не надо жить. Кажется, лишь раз я так подумал, когда генерал подорвался на мине. Единственный раз, и до сих пор не могу себе этого простить. И, наверное, никогда не прощу…
Значит, мы для всех, в общем, такие же люди, как и они сами? Значит, мы не только имеем право — мы обязаны жить? Обязаны? Как? Что, например, делать мне? Превратить кого-то навсегда в няньку при себе? Кого? Митьку? Надо ведь еще, чтобы он захотел быть нянькой…
Раньше обо всем этом так не думалось. Наверное, сознание того, что я на родине, русская речь, надписи на родном языке напомнили слишком красноречиво, что это дом и что я здесь не гость, за которым должны ухаживать, а полноправный хозяин. И я понял, что не смирюсь, что буду драться с судьбой за то, чтобы в действительности стать человеком.
2
Еще не закончился февраль, а по утрам в окна палаты ослепительно светит солнце. Над крышей серого двухэтажного дома напротив по-летнему голубое небо, без единого пятнышка. Окна первого этажа в том доме украшены узорными металлическими решетками. По вечерам перед ними на тротуаре собирается народ: мужчины в кепках с огромными козырьками, подростки в черных спецовках ремесленников, инвалид на костылях в мокрой от пота гимнастерке. Там, на тротуаре, устанавливают низенький столик и два стула с укороченными ножками. К столику садятся играть в нарды два медлительных седоусых старика в таких же, как и у обступивших столик болельщиков, кепках с огромными козырьками. Играющие курят, болельщики услужливо подносят им огонек. Из открытых окон дома время от времени вырывается сварливый женский крик, на который ни сидящие за нардами старики, ни стоящие вокруг болельщики никак не откликаются…
В большом дворе — он хорошо виден из окна нашей палаты на третьем этаже — по красноватой и твердой глинистой земле черноголовые пацаны в одних рубашках носятся за футбольным мячом, сталкиваются, падают. На веревке, протянутой от дерева к дереву, женщина в сарафане развешивает белье. Тепло…
Поверить невозможно, что всего недели две тому назад перед глазами за окнами санпоезда лежали заснеженные украинские степи, возникали и исчезали лесопосадки с черными голыми ветвями, замаскированные снегом пепелища — останки сел, чернокирпичные холмы, сдающиеся в плен печные трубы, забеленные снегом линии окопов и ходов сообщений…
Рубаба, палатная сестра, смуглая, как индианка, черноволосая и черноглазая, в первый день почему-то приняла меня за азербайджанца и заговорила со мной на своем языке. А когда поняла ошибку, весело захохотала. И мне стало радостно от ошибки ее и хохота. Пусть завезли меня в Баку, пусть он дальше от моей Одессы, чем Румыния, Венгрия и даже Австрия, — пусть! Все равно это Советский Союз, родина. Здесь меня поймет каждый, и я пойму каждого…
Госпиталь помещается в школьном здании. Палата — бывший класс, просторный и светлый, с широкими окнами и стенами в отверстиях от гвоздей и крюков, — сохранила немало следов своего довоенного существования. Над моей кроватью из стены и сейчас еще торчат крюки, на которых, наверное, когда-то висела классная доска. На подоконниках сохранились надписи, сделанные ножом, на окрашенных в зеленое стенах и сейчас еще можно прочесть слова, оставленные давними учениками класса. Кто здесь учился? Где они теперь?
Интересно, какой класс помещался в нашей нынешней палате?.. Если девятый или десятый, то из ребят мало кто уцелел. Это двадцать третий и двадцать четвертый годы рождения. Досталось и предвоенным восьмиклассникам. В сорок первом им было по шестнадцать, а в сорок третьем они уже воевали. И кое-кто из моих ровесников, рождения двадцать шестого года, успел попасть на фронт в сорок четвертом. А вот тех, кого родители догадались произвести на свет в двадцать седьмом, война, можно сказать, совершенно не задела. Всего только год разницы…
Мне нравилось устраиваться утром на стуле перед подоконником и наблюдать с высоты третьего этажа за бакинской улицей. Она круто поднималась в гору, устремляясь кверху куда-то влево. По ее булыжной горбатой мостовой редко-редко проезжал автомобиль, и прохожих здесь бывало немного. Только дважды в день — утром, перед завтраком, и днем, после обеда, — я видел улицу шумной и многолюдной. Леонид Грушецкий, одноногий харьковчанин, старожил палаты, объяснил, что где-то поблизости от госпиталя находится здешний университет.
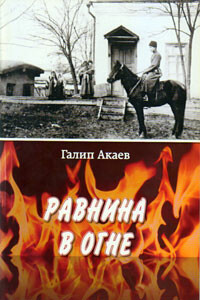
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)

Лев Львович Регельсон – фигура в некотором смысле легендарная вот в каком отношении. Его книга «Трагедия Русской церкви», впервые вышедшая в середине 70-х годов XX века, долго оставалась главным источником знаний всех православных в России об их собственной истории в 20–30-е годы. Книга «Трагедия Русской церкви» охватывает период как раз с революции и до конца Второй мировой войны, когда Русская православная церковь была приближена к сталинскому престолу.

Пролетариат России, под руководством большевистской партии, во главе с ее гениальным вождем великим Лениным в октябре 1917 года совершил героический подвиг, освободив от эксплуатации и гнета капитала весь многонациональный народ нашей Родины. Взоры трудящихся устремляются к героической эпопее Октябрьской революции, к славным делам ее участников.Наряду с документами, ценным историческим материалом являются воспоминания старых большевиков. Они раскрывают конкретные, очень важные детали прошлого, наполняют нашу историческую литературу горячим дыханием эпохи, духом живой жизни, способствуют более обстоятельному и глубокому изучению героической борьбы Коммунистической партии за интересы народа.В настоящий сборник вошли воспоминания активных участников Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде.

Написанная на основе ранее неизвестных и непубликовавшихся материалов, эта книга — первая научная биография Н. А. Васильева (1880—1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, интересы которого простирались от поэзии до логики и математики. Рассматривается путь ученого к «воображаемой логике» и органическая связь его логических изысканий с исследованиями по психологии, философии, этике.Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.