Годы на привязи - [18]
— А-а, теперь понимаю.
Аминь. Идем по пляжу, по шороху гальки. Пестрые тенты, под тентами на лотках разнообразные бутылки с вином, за бутылками белые халаты и колпаки. Ветерок с моря не подымает подолы тех, кто не в купальнике. На набережной шумно, красочно. На горизонте пароходы белы, красны, чисты; гудки их толсты, бодры.
— Глупо все вышло. — С досадой.
— Ничего не глупо, сама доводит!
Идем через парк. Большие белые платаны с кронами, как сердечные сосуды. Светлые листья, светлая тень. Мухи летят к нашим носам, на лапках несут запах дафны. Она останавливается, смотрит странно.
— Ты чего?
— Хочу тебя поцеловать.
— Я еще не отошел.
— Ты давно меня не целовал, — упрекает она меня. Она не горда.
— Будь терпеливой.
— Будь я терпеливой и жди, когда ты сам надумаешь, пришлось бы ждать ого-го!
Она тихо, обиженно идет. Я уже отошел, обнимаю ее за плечи и привлекаю к себе. Но она уже смягчилась:
— Видимо, и у нас начинается такое же, как у других.
— Какое?
— Видел молодоженов? Вначале им не оторваться друг от друга. Сплошные нежности. А потом быстро остывают. Я этого не хочу.
— Остывают, потому что девушки превращаются в баб.
— Каких это баб?
— В каких, помнишь, ты ужасно не хотела, боялась, — сварливых. Ты терпеть не могла тех, кто не умеет слушать другого, толстеет, перестает следить за собой. Топая ногой, клялась себе, что ни за что такой не станешь… Ты очень этого боялась.
— И что же, я стала такой? Я уже сожалею о сказанном.
Сумерки. Всевозможные голоса висят над городом на уровне нашего этажа в темном воздухе. Пока она звякает ключом в замочной скважине, я отламываю сухую ветку и бессмысленно ломаю. В черном теле тополя птички уже спят. Входим. Пустотой и скукой бьет в лицо. Я неохотно сажусь на стул, не знаю: остаться или снова на улицу.
— Тоскливо!
— Что же ты хочешь? Никого не знаем, никуда не ходим. Одни да одни! — объясняет она все по-своему.
Она суетится, что-то поправляет, что-то переставляет — дома всегда находит чем заняться.
— Хорошо бы иметь друзей, — говорит.
Теперь у меня другое состояние, безучастное, усталое. Мне кажется, так уже вечность сижу. Это, оказывается, от пожелтевшего, запылившегося плаката с двумя кулаками на стене. Еще год назад я его повесил как бы в шутку. Встал, сорвал, и сразу будто все изменилось.
— Наконец-то, — вздохнула она.
Ночь длинна, темная южная ночь, кажется, что вся прошла, но впереди еще ее половина, сон. В постели читаем. Слышен шум моря.
— Будем спать?
— Я почитаю.
— Спокойной ночи, — я привлекаю ее к себе. Пусть спокойно спит со сладкой мыслью, что я еще люблю.
— Да не приставай ты! И так сегодня достаточно злили.
— Кто?
— Да кто же еще! Сам знаешь!
— Бабушка, что ли?
— Ну да!
— Как?
— Ничего особенного.
— Расскажи.
— Просто глупости!
— Глупости тоже интересны.
Я сижу, облокотившись на подушку, и дергаю волосы на затылке. Интересно.
— Да не хочу я говорить! Просто бабье. Обо мне.
— Должно быть, и меня касается, иначе бы не скрывала.
— Оставь! Вот пристал! Дай почитать!
— Расскажи, не то разозлюсь. Предупреждаю — плохо кончится! Терпеть не могу упрямства, выдаваемого за принцип.
— На одну незначительную глупость десятки нанизываем.
— Сделай еще одну! Других не будет.
— Хорошо, уговорил. Бабушка сказала, что ты не любишь ее.
— И все?
— Нет, еще сказала, что ты стеснительный как красна девица, что такие в жизни ничего не добиваются.
— Что же, правильно.
— Да где же правильно? Какая она верующая, если людей хочет видеть дельцами!
— А может, деловыми?
— Давай спать.
— Давай поговорим.
— Ты говорил, что в твоих мучениях и заключается твоя сила, что каждый силен своим непреодолимым, что внутренняя борьба питает силой, или что-то в таком роде.
Я краснею:
— Я тогда оправдывался.
— А теперь настроение укорять себя?
— Почему-то чувствую потребность и в том и в другом.
— Ну-ну, выкручивайся!
— Больше ничего?
— Еще говорила, что я такая девушка, живая, и все такое, что могла бы найти лучшего. Черт-те что! Я так разозлилась! Я такой псих! Какое ей дело? Она даже испугалась.
Отвернулась и начала плакать, сморкаться.
— Ты хоть и разозлилась, но словам ее придала значение.
— Я знала, что ты это скажешь.
Гасим свет. Лежим в тишине. Перевалило за полночь. Где-то рядом — пугающая тьма, простор моря. Я шарю рукой, беру свой транзистор, приникаю ухом к его зеленому глазу и ищу музыку.
— Слушай… Ты как-то сказал, что взрослые редко бывают хорошими — все они ссорятся в семье…
— Думаю, что да.
— Но это же ужасно!
— Редко встречаются люди одного склада — вот почему.
— Не хочу быть взрослой…
— …а хочу быть дурой, да?
— Знаешь, мы с тобой разные!
— И с каждым годом эта разница будет усугубляться. Вначале люди видят только пол, потом человека, и — пошло самоутверждение! Да это и естественно, людям хочется следовать собственной природе, а не чужой, устаешь ведь в конце концов от самообмана.
— Ты в чем-то прав. Раньше мне нравилось все чужое, и сама хотела быть другою, родителей своих стыдилась. Теперь чувствую, как становлюсь похожей на мать, раньше заметить это было бы неприятно, но сейчас…
— Во-во!
— Ты холодный, черствый!
— А может, спокойный и трезвый?
— Нет!
— Вот видишь, ты ищешь во мне того, чего нет, а зачем? Я такой. Почему я должен быть другим?
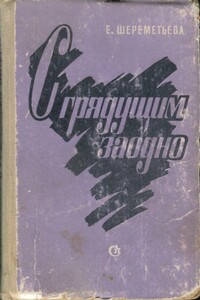
Годы гражданской войны — светлое и драматическое время острейшей борьбы за становление молодой Страны Советов. Значительность и масштаб событий, их влияние на жизнь всего мира и каждого отдельного человека, особенно в нашей стране, трудно охватить, невозможно исчерпать ни историкам, ни литераторам. Много написано об этих годах, но еще больше осталось нерассказанного о них, интересного и нужного сегодняшним и завтрашним строителям будущего. Периоды великих бурь непосредственно и с необычайной силой отражаются на человеческих судьбах — проявляют скрытые прежде качества людей, обнажают противоречия, обостряют чувства; и меняются люди, их отношения, взгляды и мораль. Автор — современник грозовых лет — рассказывает о виденном и пережитом, о людях, с которыми так или иначе столкнули те годы. Противоречивыми и сложными были пути многих честных представителей интеллигенции, мучительно и страстно искавших свое место в расколовшемся мире. В центре повествования — студентка университета Виктория Вяземская (о детстве ее рассказывает книга «Вступление в жизнь», которая была издана в 1946 году). Осенью 1917 года Виктория с матерью приезжает из Москвы в губернский город Западной Сибири. Девушка еще не оправилась после смерти тетки, сестры отца, которая ее воспитала.

Клая, главная героиня книги, — девушка образованная, эрудированная, с отличным чувством стиля и с большим чувством юмора. Знает толк в интересных людях, больших деньгах, хороших вещах, культовых местах и событиях. С ней вы проникнете в тайный мир русских «дорогих» клиентов. Клая одинаково легко и непринужденно рассказывает, как проходят самые громкие тусовки на Куршевеле и в Монте-Карло, как протекают «тяжелые» будни олигархов и о том, почему меняется курс доллара, не забывает о любви и простых человеческих радостях.
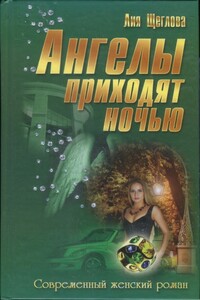
Как может отнестись нормальная девушка к тому, кто постоянно попадается на дороге, лезет в ее жизнь и навязывает свою помощь? Может, он просто манипулирует ею в каких-то своих целях? А если нет? Тогда еще подозрительней. Кругом полно маньяков и всяких опасных личностей. Не ангел же он, в самом деле… Ведь разве можно любить ангела?

В центре повествования романа Язмурада Мамедиева «Родная земля» — типичное туркменское село в первые годы коллективизации, когда с одной стороны уже полным ходом шло на древней туркменской земле колхозное строительство, а с другой — баи, ишаны и верные им люди по-прежнему вынашивали планы возврата к старому. Враги новой жизни были сильны и коварны. Они пускали в ход всё: и угрозы, и клевету, и оружие, и подкупы. Они судорожно цеплялись за обломки старого, насквозь прогнившего строя. Нелегко героям романа, простым чабанам, найти верный путь в этом водовороте жизни.

Роман и новелла под одной обложкой, завершение трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго автора. «Урок анатомии» — одна из самых сильных книг Рота, написанная с блеском и юмором история загадочной болезни знаменитого Цукермана. Одурманенный болью, лекарствами, алкоголем и наркотиками, он больше не может писать. Не герои ли его собственных произведений наслали на него порчу? А может, таинственный недуг — просто кризис среднего возраста? «Пражская оргия» — яркий финальный аккорд литературного сериала.
