Годы - [2]
Они исчезнут все, разом, как исчезли миллионы образов, что хранились в головах у бабушек и дедушек, умерших полвека назад, и у родителей, умерших вслед за ними. Там среди множества других людей, ушедших еще до нашего рождения, были мы — мальчики или девочки, точно так же, как в нашей памяти сосуществуют наши дети, какими они были в младенчестве, и наши родители или одноклассники. И когда-нибудь мы сами будем соседствовать в памяти наших детей — с внуками и с теми, кто еще не родился. Память неотступна, как влечение. Она компонует и перетасовывает — мертвых и живых, реальных людей и выдуманных, историю — с домыслом.
Вдруг исчезнут тысячи слов, что когда-то обозначали различные предметы, людские лица, поступки и чувства, выстраивали мир, будоражили душу, смущали и возбуждали плоть
лозунги, надписи на стенах домов и в кабинках туалетов, высокая поэзия и похабные анекдоты, названия книг
„анамнез“, „эпигон“, „ноэма“, „теоретический“ — термины, которые выписывали в тетрадку вместе со значением, чтобы не лазать в словарь каждый раз, когда их встречаешь
обороты, которые запросто употребляли другие — и, казалось, вряд ли когда-нибудь удастся освоить самому: „несомненно“, „приходится констатировать“
гадости, которые хочется скорее забыть, но от стараний выбросить их из головы все крепче закрепляющиеся в памяти: „сука драная“
слова, которые мужчины говорят ночью в постели: „я — твой“, „делай со мной все, что хочешь“
жить — это пить себя, не ощущая жажды
что вы делали 11 сентября 2001 года?
слова из воскресной мессы — in illo tempore[6]
выражения, давно утратившие контекст и вдруг услышанные вновь, которым радуешься, как чудом сохранившейся вещи, внезапно обретенной потере: „смутьян“, „устроить бузу“, „умереть не встать!“, „косорукая!“
слова, прочно связанные с каким-то человеком или местом, как девиз, — на одном участке руанского шоссе кто-то в машине сказал фразу, и теперь, стоит там оказаться, эти слова выскакивают, возникают в уме, как потайные фонтанчики в Петергофе, которые выстреливают водой, как только на них наступишь
примеры из учебников по грамматике, цитаты, ругательства, песни, мудрые изречения, которые в юности мы выписываем в тетрадки
наш аббат Трюбле все строчит себе
слава для женщины — это роскошный траур по утраченному личному счастью
память живет вне нас, в дождливом дыхании времени
апофеоз для монашки — жить девой и умереть святой
ученый разложил результаты раскопок по ящикам
„тот кулон — поросенок с сердечком / за сто су ей отдал продавец / он сулил ей счастливую встречу / разве жалко сто су за любовь“
„я расскажу вам историю любви“
а можно „чтотоделать“ вилкой? Можно лить „непоймичто“ в рожок младенцу?
(„карты, сдавайтесь!“, „дело пахнет керосином“, „ясно, что ничего не ясно“, „ну, короче“, — как говорил король Пипин…», «выход есть! — сказал Иона и выбрался из кита», «что значит „хватит“? — хватать-то нечего!», «концы в воду прячут только кашалоты!» — тысячу раз слышанные присказки и каламбуры, несмешные, приевшиеся, пошлые до отвращения, пригодные лишь для подтверждения семейной общности и сгинувшие сразу после распада брака, но временами всплывающие в речи, совершенно ненужные и бессмысленные вне существовавшего когда-то клана: по сути это все, что осталось от мужа после многолетней жизни врозь)
слова, которые, как ни удивительно, уже существовали в какой-то момент прошлого — «мастак» (письмо Флобера Луизе Колле), «корпеть» (Жорж Санд ему же)
латынь, английский, русский язык, выученный за шесть месяцев ради одного парня из СССР, — осталось только da svidania, ya tebia lioubliou, karacho
хорошее дело браком не назовут
метафоры, такие затертые, что удивительно, как их еще употребляют: «вишенка на торте», «львиная доля»
«Мать, погребенная вне сада первозданного»[7]
устаревшие выражения: «бежать впереди паровоза»; потом забыли, зачем бежать впереди паровоза; потом забыли, как выглядит паровоз
слова мужские, неприятные: «кончать», «дрочить»
слова, заученные для занятий, рождавшие чувство победы над сложностью мироустройства. Со сдачей экзамена они вылетали из головы быстрее, чем запоминались
бесконечные присказки и сентенции дедушек-бабушек, родителей, которые после их смерти вспоминались чаще, чем лица: «чужую шляпу на голову не наденешь»
марки исчезнувших товаров из прошлого — внезапно всплывая в памяти, они радовали больше, чем названия известных доныне фирм: шампунь «Дульсоль», шоколад «Кардон», кофе «Ниди» — вспоминались, словно близкие люди, которых уже не с кем помянуть
«Летят журавли»
«Марианна моей юности»
солнечная погода порадует парижан…
миру не хватает веры в непреходящую истину.
Все пропадет в единый миг. Сотрется словарный запас, копившийся от колыбели до смертного одра. Наступит тишина, и не будет слова, чтобы обозначить. Ни звука не вырвется из открытого рта. Ни единого «я» или «мне». Но язык будет продолжать отливать мир в слова. В беседах за праздничным столом еще будет звучать наше имя, постепенно отделяясь от внешности, пока и оно не потонет в безымянной массе предков.
Овальная фотография цвета сепии, вставленная в паспарту с золотым обрезом, укрытая листом жатого пергамента. Сверху надпись: «Фото-модерн, Ридел, Лилльбон (S. Inf.re). Тел. 80». Крупный насупленный младенец с темным венчиком волос на макушке, с голыми ручками и ножками, сидит на подушке посреди деревянного резного стола. Задник в виде облаков, гирлянда резьбы, чуть задравшаяся вышитая рубашка (низ животика прикрыт ладонью), лямка, скользнувшая с пухлого плечика, — напоминают картинные образы амуров и ангелочков. Такой снимок наверняка был разослан по почте всем родственникам, и каждый тут же стал гадать, с какой стороны семьи случилось прибавление. Это фото из семейного архива — датируемое, по всей видимости, 1941 годом, — наглядно демонстрирует мещански обставленный ритуал вхождения человека в мир.
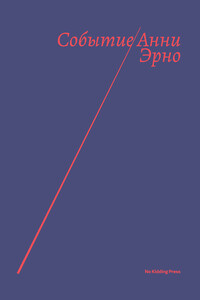
В 1963 году двадцатитрехлетняя Анни Эрно обнаруживает, что беременна. Во Франции того времени аборты были запрещены. «Событие», написанное сорок лет спустя, рассказывает о нескольких месяцах, в течение которых она скрывала беременность от родителей, искала помощи у знакомых и врачей и тщетно пыталась сделать аборт вязальной спицей. История, рассказанная в жестокой простоте фактов, показывает нам общество табу и классовых предрассудков, где пережитое героиней становится инициацией. Опираясь на записи в дневнике и память, скрупулезно выстраивая двойную перспективу, Эрно подбирает новое значение для прожитого опыта.
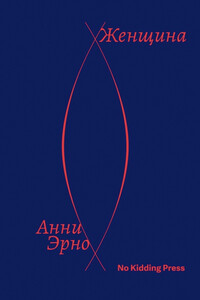
В гериатрическом отделении больницы в пригороде Парижа умирает пожилая женщина с болезнью Альцгеймера. Ее дочь, писательница Анни Эрно, пытаясь справиться с утратой, принимается за новую книгу, в которой разворачивается история одной человеческой судьбы – женщины, родившейся в бедной нормандской семье еще до Первой мировой войны и всю жизнь стремившейся преодолеть границы своего класса. «Думаю, я пишу о маме, потому что настал мой черед произвести ее на свет», – объясняет свое начинание Эрно и проживает в письме сцену за сценой из материнской жизни до самого ее угасания, останавливаясь на отдельных эпизодах их с матерью непростых отношений с бесстрастием биографа – и безутешностью дочери, оставшейся наедине с невосполнимой нехваткой.

Романы Эрно написаны в жанре исповедальной прозы, лишены четкой фабулы и — как бы это сказать… — слегка истеричны, что ли. История под названием «Обыкновенная страсть» — это предклимактерические воспоминания одинокой француженки о ее любовнике, эмигранте из Восточной Европы: серьезная, тяжелая, жизненная книга для читательниц «женских романов».

Излюбленный прием Эрно — ретроспектива, к которой она прибегает и во втором романе, «Стыд», где рассказчица «воскрешает мир своего детства», повествуя о вещах самых сокровенных, дабы наконец-то преодолеть и навсегда изжить вечно преследующий ее стыд за принадлежность к «вульгарному» классу — мелкопоместным буржуа.
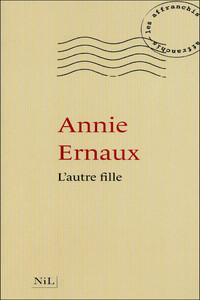
Книги данной серии, задуманной и осуществляемой Клер Дебрю, публикуются со штемпелем «Погашено»; таким на почте помечают принятое к отправлению.Когда сказано всё, до последнего слова и можно, как говорят, перевернуть последнюю страницу, остаётся одно — написать другому письмо.Последнее, однако, связано с известным риском, как рискован всякий переход к действию. Известно же, что Кафка своё Письмо к отцу предпочёл отложить в дальний ящик стола.Написание того единственного письма, письма последнего, сродни решению поставить на всём точку.Серия Погашено предъявляет авторам одно единственное требование: «Пишите так, как если бы вы писали в последний раз».

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Париж, 1944 год. Только что закончились мрачные годы немецкой оккупации. Молодая, но уже достаточно известная публике Эдит Пиаф готовится представить новую программу в легендарном «Мулен Руж». Однако власти неожиданно предъявляют певице обвинение в коллаборационизме и, похоже, готовы наложить запрет на выступления. Пытаясь доказать свою невиновность, Пиаф тем не менее продолжает репетиции, попутно подыскивая исполнителей «для разогрева». Так она знакомится с Ивом Монтаном — молодым и пока никому не известным певцом.
