Год любви - [138]
Играет музыка, по очищенной от людей улице шагает президент, у путника наверху кружится голова, ему неудобно стоять, он незаметно меняет положение ног. Никто не обращает на это внимания, все головы повернуты в сторону президента и последующих ораторов, кроме того, путник не попадает в привычное поле зрения, так как стоит высоко, серая фигура на фоне серого неба. Он видит все с высоты своего положения, видит, как через некоторое время покидает площадь оркестр, как расходятся люди и полиция снимает оцепление, и только когда чуть позже он начинает жестикулировать и орать во все горло, требуя, снять его с колонны, туристы хватаются за фотоаппараты и фотокамеры и снимают, снимают как полоумные — не для того, чтобы запечатлеть недоразумение, кричащую несправедливость, а чтобы продемонстрировать чудеса техники. Путник превратился в святого на пьедестале.
Никуда не годится, думаю я. Так легко тебе от него не отделаться, он и впредь будет маршировать по городу. И пусть себе марширует.
Официанты убирают со столов, ресторан опустел, я один из последних посетителей у Шартье, если не самый последний. Поражаюсь великодушию официантов, которые позволяют мне сидеть до конца, не напоминая, что пора уходить. Это не просто великодушие, это проявление нежности. Уверен, мне бы подали и стаканчик на посошок, стоило только попросить.
Я люблю официантов, они не просто хорошо знают людей, они любят их. Я вспоминаю одного официанта, которого мне пришлось тащить в его мансарду, когда он после очередного стакана рухнул под стол. Было это в выходной день, он поздно ночью появился в одном из баров, где я выпивал с друзьями, элегантной внешности человек, мы его не сразу узнали. Мы болтали и пили, пили часто, наш друг официант все время угощал, нам, чтобы не ударить в грязь лицом, приходилось отвечать тем же.
И вдруг он свалился на пол. Хозяин заведения, приятель официанта, назвал нам адрес и рассказал, как добраться до мансарды. Мы вдвоем затащили его наверх, и я до сих пор помню то удивление, которое охватило меня при виде более чем убогой чердачной комнатенки. Крохотный чуланчик, незаправленная кровать, прикрепленный к стене осколок зеркала, рядом две открытки; единственный стул; на полу грязные носки. Так вот где жил тот, кто в таком элегантном костюме появился в баре и раз за разом угощал всю компанию. Эта была не просто нищета, это было одиночество, тяжелое, гнетущее одиночество. Может, он бился об заклад? Играл в рулетку? Содержал кого-нибудь?
Видит Бог, я по себе знаю, что значит обитать в скромном жилище, но такого убожества видеть не приходилось. Тут я поневоле вспомнил, как однажды написал в своем непрезентабельном кабинетике — в дополнение к описанию обстановки: я повелитель своего письменного стола. До чего же хвастливый постскриптум! Попытка желаемое выдать за реальность. Если и могла идти речь о повелении, то лишь в редчайших случаях. Чаще всего это были раздумья и напряженное высматривание следов, намеков на следы; или попытки поймать конец нити, потянуть за него, обнаружить еще одну нить, и так тянуть до тех пор, пока не обозначится что-то похожее на ткань или ковер. С разноцветными узорами. Или хотя бы на половичок у порога, то, на что можно встать. Или на парашют. Чтобы парить. Да, когда повезет, образовавшуюся словесную ткань надувает струей воздуха или порывом ветра — и можно повиснуть на ней и лететь. Тогда мир сразу начинает казаться другим.
Откуда взялась эта навязчивая страсть вытягивать за ниточку себя или что-нибудь еще, выставлять напоказ и приводить в движение? Может, все дело в желании нарушить могильный покой и произвести впечатление движения, то есть жизни? Или эти раскопки, эту археологическую экспедицию предпринимаешь из жадного желания обрести что-то ускользнувшее, а заодно и самого себя? Только бы не катиться в опломбированном вагоне сквозь непроницаемый мрак к смерти, всегда утверждал я.
Разве мой английский друг Джо катился в смерть в своем брюхе, как в опечатанном баллоне? Или он так и остался в предродовом состоянии и словно в околоплодных водах или в брюхе кита дрейфовал навстречу смерти? Может, именно поэтому он не проявлял никакого интереса к миру и другим людям, что плавал в своей оболочке и ни в чем не нуждался? Ему и в самом деле не нужны были озарения, так как там, где он плавал, свет еще не отделился от мрака. Был ли Джо в таком случае настоящим парнем, то есть свободным человеком? И люди, подобные путнику или солдату на границе с Маньчжурией, в сравнении с ним только потому всего лишь подневольные, что однажды увидели проблеск света и с тех пор боятся мрака и тянутся к свету в маниакальной надежде на избавление?
Возьмем, к примеру, солдата, думаю я; он ведь мог просто умереть с голоду и погрузиться в приятную дремотную темь, если бы был слишком ленив или малодушен, чтобы дезертировать. На что он надеялся, роя свой окоп?
Должно быть, его взбадривает и побуждает к труду фантазия, думаю я. Джо, похоже, был начисто лишен фантазии. Фантазия, помимо всего прочего, еще и заставляет человека бояться. Не будь у солдата фантазии, он не ждал бы, когда появится враг, и, стало быть, ничего не боялся бы. Не знал бы скуки, чувства долга, стремления к успеху, любопытства, надежды, вообще ничего, не знал бы даже чувства собственного достоинства. И кем выглядел бы Джо в глазах добровольно обрекшего себя на рабство солдата — свободным человеком или просто комиком?

«Мех форели» — последний роман известною швейцарского писателя Пауля Низона. Его герой Штольп — бездельник и чудак — только что унаследовал квартиру в Париже, но, вместо того, чтобы радоваться своей удаче, то и дело убегает на улицу, где общается с самыми разными людьми. Мало-помалу он совершенно теряет почву под ногами и проваливается в безумие, чтобы, наконец, исчезнуть в воздухе.
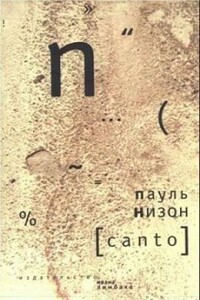
«Canto» (1963) — «культовый антироман» Пауля Низона (р. 1929), автора, которого критики называют величайшим из всех, ныне пишущих на немецком языке. Это лирический роман-монолог, в котором образы, навеянные впечатлениями от Италии, «рифмуются», причудливо переплетаются, создавая сложный словесно-музыкальный рисунок, многоголосый мир, полный противоречий и гармонии.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.
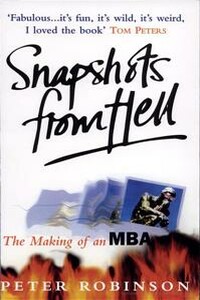
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера? Правильно, с поиска денег. И они найдены – 33 тысячи долларов в свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств. Друзьям остается решить два вопроса. Первый – простой: а были деньги – то? И второй – а в них ли счастье?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.