Глоссолалия - [4]
Невозможное миру фантазии — сущее звука; область звука — в за-образном, в корневом, в прародимом.
13
Мир — абстракция круга миров; мир — момент мирозданий; понятие непонятно в понятии; эсотерический смысл его, — круг; это — миф; но метафора, миф, обьяснима лишь в круге метафор; мифология мифологий — отсутствует; круг метафор — не замкнут; смыкается звуком он; звук непосредственен; и мифология мифологий лежит в смысле звучности; непререкаемы звуки; я слышу r, то есть gr и не могу утверждать, что я слышу р, t; между тем образ птица в образованиях нашей души раздроблен (во мне он есть коршун, в другом он есть ласточка).
Образ слова не разрешает проблему познания речи.
14
Трагедия понятийных пониманий словесности в том, что процесс становления, образ, опознается одним из продуктов процесса; продукт есть понятие; точка не обнимает нам круга.
Понятие — в круге суждений; в аналитической логике оно есть первейший момент; круги мысли защелкнуты составною частицей — понятием; образность суждения — налицо; зависим ость мысли понятий от образов речи есть факт жизни мысли.
Мы приходим к признанию смысла понятия в круге, которого целостность — образ (идея), или миф; миф же жив; в тысячелетиях понятийной жизни растет миф единый.
Звук — круг кругов: можно в образах мыслить отчетливо, если найти звук единый, связующий их; в образованиях мифологии звук изживает себя.
Звук безобразен, беспонятен, но — осмыслен; если: б он развил смысл безотносительно к данным смыслам понятий, — за листопадом словес мы могли б, проницая словесность, до дна проницать и себя: свою скрытую суть мы могли бы увидеть; и звукословие — опыт; восстановлено мироздание в нем.
15
Форму горнего человека возможно прочувствовать, идя внутрь, за собою ведя извне бьющие звуки; макрокосмический человек, по заверению Штейнера, станет внятно понятным, когда мы научимся видеть, как звук облекается в образ.
Штейнер советует звук наблюдать: произнесения — опыты; необходимо восчувствовать, как звук «а», проносяся по воздуху, ткет себе ткани.
Тогда мы поймем, что вставало перед мудрым евреем в звучаниях Библии; Берешит бара Элогим эт хишамаим бэт харец.[3]Целый мир возникал; возникали картины, подобные возникающим у порога к сверхчувственной тайне; проникновение в Библию — чрез углубление в звук; необходимо умение углублять; необходимо умение наблюдать.
— «Берешит» — звук свободен от злаков понятий, покрывших его, от метафор, от корня: и то — бе, решь и шит; то — пылающий пламенник; надо, кинуться в пламенник звука, как в пещь Даниила; остаться нетронутым в ней; и представление огромного шара и жара возникнет: и свет, будто солнечный центр, вдруг блеснет: внутрь себя; мировая ткань «мира в начале» появится образом пара, огней, раскаленных, бушующих, воспламененных субстанций; из пара, огней, раскаленных, воспламененных субстанций — лик Духа, творящего бурную и калимую ткань; эта ткань — мировой кипяток, — как покров, на том Духе; представление громадного жара и шара воистину станет нам ясным покровом, переливчатым, как перламутр, и прозрачным, как воздух; сквозь него точно демоны глухонемые, — на нас Элогимы стремят безглагольные взоры свои; и творят нам «Начала»: то было «в начале» земли, в «берешит» .
«Берешит» — вот три звука: бэт, реш и шит; бэт в душе мудрецов вызывало энергию действий, прикрытых покровом: энергию действия в скорлупе… в перламутре из пламеней; реш вызывало огромные облаки Духов, творящих внутри оболочки и устремляющих безглагольные взоры на нас; «шит» являло потоки стремящихся сил — страстных сил, устремленных наружу; в звуке шит есть задор: — вот какая картина вставала еврею первейшими звуками первоположенной книги; звуки Библии есть особый язык; если душу расплавить, прояснится он: и — откроется путь к пониманию Библии. — Так говорит Рудольф Штейнер: «Поэтому в самых звуках… является нам та высокая школа, которая древнею мудреца приводила к картинам, воскресшим для взора… Появляется невыразимый трепет… перед тем, как воскресла вселенная наша».[4]
Для охранителей музеев корней это все только бред, разумеется; их небредные мысли зато часто — тусклости.
16
Вот еще углубление в звук: Яков Беме…
— «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erden».
— «Надо в точности рассмотреть эти слова, что они значат: ибо слово Am собирается в сердце, и доходит до губ, здесь оно пленяет, и звуча возвращается назад до своего исходного места… Это означает…, что звук изошел из сердца Божия и объял все место сего мира; но как оно оказалось злым, то звук снова отступил назад». Живописуется здесь душевность движения гласного «а», и отдавания звука при «m»: жесты «m» суть отдача от губ в область полости — ниже и спереди по отношению к «n»… «Слово An вырывается из сердца к устам, и оставляет долгий след; когда же оно произносится, то замыкается в середине на своем престоле верхним небом и остается наполовину снаружи и наполовину внутри»… (Здесь опять-таки гласное «а» прямо связано с сердцем; а «n», пропуская струю выдыханий через нос, оставляет свое впечатление: «наполовину снаружи и наполовину внутри»
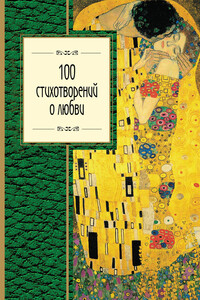
Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества от великих поэтов всех времен и народов.
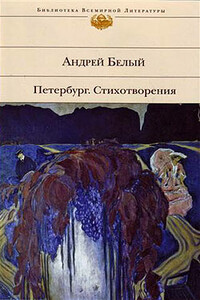
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
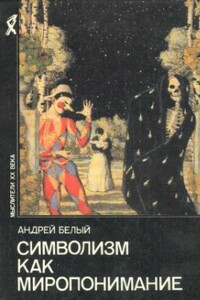
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
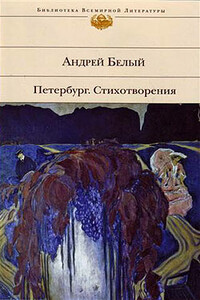
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».

Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания А.В. Лаврова.Тексты четырех «симфоний» Андрея Белого печатаются по их первым изданиям, с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру). Первые три «симфонии» были переизданы при жизни Белого, однако при этом их текст творческой авторской правке не подвергался; незначительные отличия по отношению к первым изданиям представляют собой в основном дополнительные опечатки и порчу текста.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.
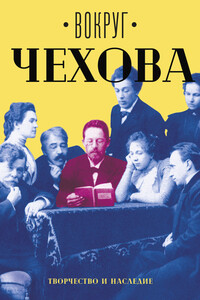
В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.
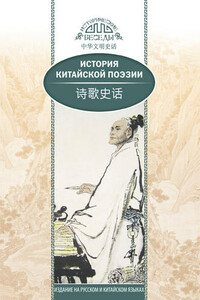
Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».