Глаз и Солнце - [4]
Как ни велико значение волновой теории света, она не могла оказать влияния на дальнейшее развитие геометрической оптики, так как последняя с ней не связана; она с большей наглядностью доказывает второстепенное значение явления дифракции в оптических приборах. Теория геометрической оптики, которая после Кеплера и Ньютона стала быстро развиваться и углубляться, наоборот, создала переворот в конструкции оптических приборов, и связь между теорией и практикой стала все теснее и теснее.
Линзы большого диаметра для астрономических труб изготовлялись Дивини, Кампани (1660) в Италии, Борелем и Озу во Франции, Нейлем в Англии, Чирнгаузеном в Германии. Одновременно с этим уточнялось понятие каустик (Гюйгенс, Чирнгаузен, И. и Я. Бернулли, Лопиталь), изучались свойства аберрированных изображений.
Физиологическая оптика после работ Роберта Смита и Джурина (1730) сделала заметные успехи; впервые ставится вопрос о разрешающей силе глаза, хотя в очень несовершенном виде.
В середине XVIII в. Эйлер, взявший под сомнение положение Ньютона о невозможности получить ахроматический объектив, предложил строить сложные объективы, пользуясь водой как промежуточной средой. После работ Клингенстьерна (1750–1755) и Доллонда последнему удалось построить ахроматический объектив; этот вопрос имел настолько большое значение, что, помимо перечисленных авторов, им занимались еще Клеро и д’Аламбер. Любопытно, что, как и Ньютон, Эйлер в решении рассматриваемого вопроса исходил из неверной идеи, а именно: что глаз человека является ахроматическим. Позже было показано, что глаз человека обладает значительной хроматической аберрацией, но зрительный аппарат каким-то образом ее исключает, как, например, он исключает слепое пятно сетчатки.
Принцип ахроматизма стал применяться и в микроскопе (Фусс, Дельбарр по указаниям Эйлера, 1769). Это вызвало заметное улучшение качества этих приборов, которые почти два столетия оставались на низком уровне и рассматривались больше в качестве игрушек, а не научных инструментов.
К этому времени относится возникновение фотометрии (Буге, Ламберт); устанавливаются основные понятия фотометрии, понятия яркости, силы света и освещенности изучаются теоретически и опытным путем основные зависимости, связывающие эти величины между собой.
Начало XIX в. связано с новым направлением в геометрической оптике, а именно с более глубоким изучением структуры пучков лучей. Это вопрос – чисто геометрический, и, естественно, он разрабатывался математиками: Малюсом (1807), Дюпеном (1822), Жергонном (1825), Штурмом (1838), Куммером (1859).
Другое направление – изучение оптических систем вблизи их оптической оси – ведет к законам параксиальной оптики. Благодаря своей простоте и наглядности эти законы позволяют представить оптические системы в виде простейших схем, с помощью которых основная задача геометрической оптики – нахождение изображения – решается элементарно. Кроме того, эти законы являются предельными для широких пучков; они определяют свойства того класса оптических систем, которые можно называть идеальными.
Хотя основные законы параксиальной оптики были уже известны Ньютону, но в законченном виде эта важнейшая область геометрической оптики была представлена Гауссом в 1844 г. С иных точек зрения она была много позже изучена Мёбиусом (1855), Максвеллом и Аббе (1862).
Теория аберраций оптических систем разрабатывалась для отдельных случаев уже Ньютоном, Эйлером, Эри, Коддингтоном (1830); для общего случая – Зейделем (1858) и Петцвалем (около 1855 г.); разложение аберраций в ряд на основании теории эйконала было выполнено Шварцшильдом (1905) для аберраций третьего порядка и Кольшюттером для аберраций пятого порядка.
Приемами дифференциальной геометрии Гульстранду удалось решить этот вопрос не только для систем, симметричных около оси, но также для систем, обладающих более общим видом симметрии.
Вместо свойств пучков лучей можно изучать свойства ортогональных им поверхностей и рассматривать семейства последних как эквипотенциальные поверхности. Таким подходом к геометрической оптике мы обязаны Гамильтону (1830). Этим же вопросом, не зная о работах последнего, занимался Брунс (1895); теория эйконала стала развиваться после Шварцшильда, Герцбергера (1925 и позже), Т. Смита (1920 и позже).
Параллельно с теорией чисто геометрической оптики успешно развивалась и дифракционная теория изображений, основа которой уже лежит в идеях Гюйгенса с дополнением Френеля (1820). Однако вопрос о виде изображения был решен только Эри (1840) и Рэлеем (1885).
Геометрическая оптика под давлением промышленности развивалась также в направлении улучшения методики расчета оптических систем. Работы по методике расчета обычно не публикуются, и литература по этому вопросу очень скудна, но можно судить о ее состоянии по результатам, т. е. по изготавливающимся оптическим системам.
Изобретение ахроматических объективов оказало громадное влияние на дальнейшее развитие оптических приборов. С одной стороны, оно указало на необходимость варить разные сорта оптического стекла и послужило основной причиной организации мастерских и заводов оптического текла (Гинан, Шотт, Ченс и др.), где стали разрабатываться сотни сортов с различными показателями преломления и дисперсиями; с другой – оно позволило, улучшив качество объективов в отношении хроматической аберрации, одновременно исправить и остальные аберрации, что раньше было невозможно из-за отсутствия достаточного количества сортов стекла. Особенно подробно изучаются двухлинзовые объективы астрономических труб (Клеро, Моссоти, Гаусс); однако границы возможностей этих объективов определяются не расчетными трудностями, а высокими требованиями, предъявляемыми к качеству, особенно к однородности стекла и к точности формы поверхностей; изготовление их требует большого искусства и точнейших методов контроля. Наибольший из объективов, изготовленный Кларком для Йеркской обсерватории, имеет диаметр, равный 1 м. Зеркальные объективы, изготовление которых облегчается тем, что к качеству стекол не предъявляется таких жестких требований, и тем, что обработке подлежит одна поверхность вместо четырех, достигли диаметра в 2,51 м (для обсерватории Маунт-Вилсон), сделан 5-метровый диск для обсерватории Маунт-Паломар. Но рядом с этими гигантами построены на основании чисто математических расчетов гораздо меньшие зеркальные системы (Ричи – Кретьена), которые оставляют первые далеко позади во многих отношениях.
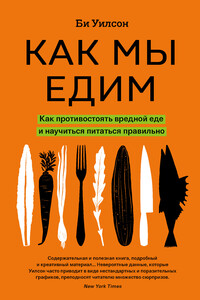
Разговор о том, что в нашем питании что-то не так, – очень деликатная тема. Никто не хочет, чтобы его осуждали за выбор еды, именно поэтому не имеют успеха многие инициативы, связанные со здоровым питанием. Сегодня питание оказывает влияние на болезни и смертность гораздо сильнее, чем курение и алкоголь. Часто мы едим нездоровую еду в спешке и с трудом понимаем, как питаться правильно, что следует ограничить, а чего нужно потреблять больше. Стремление к идеальному питанию, поиск чудо-ингредиента, экстремальные диеты – за всем этим мы забываем о простой и хорошей еде.
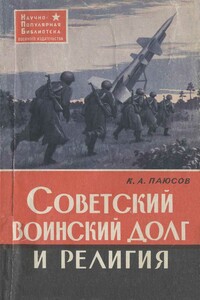
Как коммунистическая и религиозная идеологии относятся к войне и советскому воинскому долгу? В чем вред религиозных предрассудков и суеверий для формирования морально-боевых качеств советских воинов? Почему воинский долг в нашей стране — это обязанность каждого советского человека защищать свой народ и его социалистические завоевания от империалистической агрессии? Почему у советских людей этот воинский долг становится их внутренней нравственной обязанностью, моральным побуждением к самоотверженной борьбе против врагов социалистической Родины? Автор убедительно отвечает на эти вопросы, использует интересный документальный материал.

Способны ли мы, живя в эпоху глобального потепления и глобализации, политических и экономических кризисов, представить, какое будущее нас ждет уже очень скоро? Майя Гёпель, доктор экономических наук и общественный деятель, в своей книге касается болевых точек человеческой цивилизации начала XXI века – массового вымирания, сверхпотребления, пропасти между богатыми и бедными, последствий прогресса в науке и технике. Она объясняет правила, по которым развивается современная экономическая теория от Адама Смита до Тома Пикетти и рассказывает, как мы можем избежать катастрофы и изменить мир в лучшую сторону, чтобы нашим детям и внукам не пришлось платить за наши ошибки слишком высокую цену.

Последняя египетская царица Клеопатра считается одной из самых прекрасных, порочных и загадочных женщин в мировой истории. Её противоречивый образ, документальные свидетельства о котором скудны и недостоверны, многие века будоражит умы учёных и людей творчества. Коварная обольстительница и интриганка, с лёгкостью соблазнявшая римских императоров и военачальников, безумная мегера, ради развлечения обрекавшая рабов на пытки и смерть, мудрая и справедливая правительница, заботившаяся о благе своих подданных, благородная гордячка, которая предпочла смерть позору, — кем же она была на самом деле? Специалист по истории мировой культуры Люси Хьюз-Хэллетт предпринимает глубокое историческое и культурологическое исследование вопроса, не только раскрывая подлинный облик знаменитой египетской царицы, но и наглядно демонстрируя, как её образ менялся в сознании человечества с течением времени, изменением представлений о женской красоте и появлением новых видов искусства.
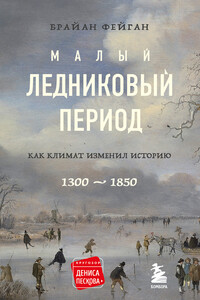
Представьте, что в Англии растет виноград, а доплыть до Гренландии и даже Америки можно на нехитром драккаре викингов. Несколько веков назад это было реальностью, однако затем в Европе – и в нашей стране в том числе – стало намного холоднее. Людям пришлось учиться выживать в новую эпоху, вошедшую в историю как малый ледниковый период. И, надо сказать, люди весьма преуспели в этом – а тяжелые погодные условия оказались одновременно и злом и благом: они вынуждали изобретать новые технологии, осваивать материки, совершенствовать науку.
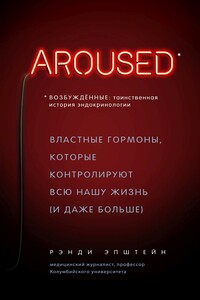
Перепады настроения, метаболизм, поведение, сон, иммунная система, половое созревание и секс – это лишь некоторые из вещей, которые контролируются с помощью гормонов. Вооруженный дозой остроумия и любопытства, медицинский журналист Рэнди Хаттер Эпштейн отправляет нас в полное интриг путешествие по необычайно захватывающей истории этих сильнодействующих химикатов – от промозглого подвала девятнадцатого века, заполненного мозгами, до фешенебельной гормональной клиники двадцать первого века в Лос-Анджелесе.
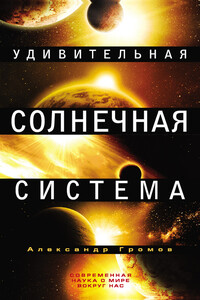
Солнечная система – наш галактический дом. Она останется им до тех пор, пока человечество не выйдет к звездам. Но знаем ли мы свой дом? Его размеры, адрес, происхождение, перспективы на будущее и «где что лежит»?Похоже, что мы знаем наш дом недостаточно. Иначе не будоражили бы умы открытия, сделанные в последние годы, открытия подчас удивительные и притом намекающие на то, какую прорву новых знаний мы должны обрести в дальнейшем. Уже в наше время каждая новая книга о Солнечной системе устаревает спустя считаные годы.