Глаз и Солнце - [2]
Такого же рода расплывчатые соображения можно найти у современников Аристотеля. Очень смутно подозревалось, что зрение каким-то образом связано со светом (Лукреций, Эпикур, Архимед). У Сенеки можно найти указания на увеличивающее действие стеклянных шаров, заполненных водой, но его объяснение этого явления показывает, что философы того времени не имели ни малейшего понятия о связи явления преломления, хорошо им известного, с кажущимся увеличением объектов.
Возможность зажигания различных тел с помощью этих же шаров или линз из горного хрусталя была известна друидам, но это свойство прозрачной материи ни в какой степени не ставилось в связь с преломлением.
Однако ко времени Евклида накопился ряд данных, относящихся к оптическим явлениям, и последний оказался в состоянии написать настоящий трактат по оптике, в котором, между прочим, изучаются изображения, даваемые зеркалами. К этому времени стала яснее связь между светом и зрением, но у физиков преобладало мнение, навеянное аналогией с чувством осязания, что свет распространяется от глаза к наблюдаемому предмету и обратно. Астроном Птолемей (150 г. н. э.) изучал подробно явление преломления и применил результаты своей работы к исследованию атмосферной рефракции.
После падения Римской империи наступил более чем тысячелетний закат научной деятельности в Европе. Арабский геометр Альгазен в XII в. собрал все известные ему материалы по оптике, добавил собственные изыскания и написал ценное произведение, где впервые подробно рассматривался вопрос о зрении и зрительном аппарате и где была создана первая теория процесса зрения; Альгазен также углубился дальше своих предшественников в вопросе рефракции, в частности об атмосферной рефракции. Связь между преломлением и увеличением прозрачных тел, ограниченных выпуклыми поверхностями, для него вполне ясна; можно предположить, что его высказывания на этот счет вызвали появление первых очковых линз. Во всяком случае несомненно, что труды Альгазена создали новую эпоху в развитии оптики, эпоху, прославленную работами Витело, Пеккама, Бэкона (XIII в.), углубивших теорию преломления, обнаруживших (Витело) потерю света при преломлении и отражении, улучшивших теорию радуги, объяснивших мерцание звезд, зажигательное действие зеркал, увеличивающие свойства зеркал и т. д. Бэкон высказал мысль о возможности с помощью зеркал и линз приблизить любые далекие предметы, вследствие чего ему иногда ошибочно приписывают изобретение телескопа.
Одновременно, под некоторым влиянием работ перечисленных оптиков, появляются первые очки (Алессандро Спина, Сальвино Армати и др.), действие которых ни для кого еще не ясно, хотя Мавролик посвятил много труда решению этого вопроса. Насколько ничтожны были успехи в развитии теории зрения, видно из того, что для Бэкона зрение еще не связывалось отчетливо со светом, и гипотеза древних об испускании глазом частиц, достигающих наблюдаемых предметов и возвращающихся обратно в глаз, казалась вполне приемлемой.
Однако если оптика медленно развивалась в области понимания природы света, то она удачно ответвилась в сторону изучения перспективы и применений прямолинейности распространения света. Мавролик дал первое правильное объяснение форм солнечных пятен (зайчиков), вызываемых алыми отверстиями произвольной формы. Джованни Баттиста делла Порта, современник Мавролика, изобретает камеру-обскуру, и последняя оказала ему большую помощь при объяснении роли глазного зрачка в работе глаза. От камеры-обскуры до проекционного фонаря – один шаг; он был пройден Кирхером. И делла Порта, и Кирхер увлекаются вопросом об оптических системах, сжигающих на расстоянии, посвящают ему трактаты, производят опыты. Соображения делла Порта на эту тему очень напоминают рассуждения многочисленных изобретателей сенсационных сжигающих приборов.
Конец XV и начало XVI в. являются переломной эпохой в истории оптики; она связана с распространением очковых линз, луп, призм, выпуклых и вогнутых зеркал, с появлением камеры-обскуры и проекционного фонаря. В руках физиков оказался ряд ценнейших оптических приборов или, точнее, деталей, элементов, из которых могут быть созданы самые сложные оптические системы. Не удивительно, что оптические теории стали развиваться со все возрастающей скоростью.
Около 1590 г. была построена первая зрительная труба (Янсен, Липперсгей); несколько позже, в начале XVII в., были построены первые сложные микроскопы (Фонтана). Открытие подзорной трубы и микроскопа приписывается случайности. Действительно, теория хода лучей через линзы не была еще построена, и понятие «изображения» только рождалось; сознательное построение сложных оптических систем оказалось под силу только такому выдающемуся физику, как Галилей, который построил понаслышке и тот и другой прибор, направил трубу на небо и открыл ряд небесных явлений, а именно: существование и вращение спутников вокруг Юпитера, фазы Венеры и пр. Это дало в его руки мощнейшие аргументы в пользу гипотезы Коперника о вращении Земли вокруг Солнца.
Однако даже Галилей не дал удовлетворительного объяснения действия микроскопа и астрономической трубы, не понял ни роли окуляра, ни основ работы глаза.
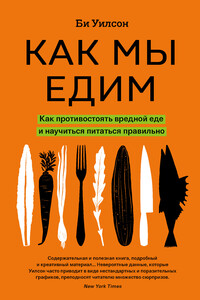
Разговор о том, что в нашем питании что-то не так, – очень деликатная тема. Никто не хочет, чтобы его осуждали за выбор еды, именно поэтому не имеют успеха многие инициативы, связанные со здоровым питанием. Сегодня питание оказывает влияние на болезни и смертность гораздо сильнее, чем курение и алкоголь. Часто мы едим нездоровую еду в спешке и с трудом понимаем, как питаться правильно, что следует ограничить, а чего нужно потреблять больше. Стремление к идеальному питанию, поиск чудо-ингредиента, экстремальные диеты – за всем этим мы забываем о простой и хорошей еде.
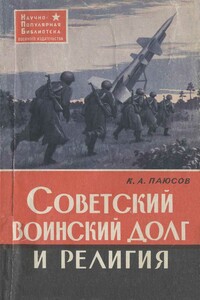
Как коммунистическая и религиозная идеологии относятся к войне и советскому воинскому долгу? В чем вред религиозных предрассудков и суеверий для формирования морально-боевых качеств советских воинов? Почему воинский долг в нашей стране — это обязанность каждого советского человека защищать свой народ и его социалистические завоевания от империалистической агрессии? Почему у советских людей этот воинский долг становится их внутренней нравственной обязанностью, моральным побуждением к самоотверженной борьбе против врагов социалистической Родины? Автор убедительно отвечает на эти вопросы, использует интересный документальный материал.

Способны ли мы, живя в эпоху глобального потепления и глобализации, политических и экономических кризисов, представить, какое будущее нас ждет уже очень скоро? Майя Гёпель, доктор экономических наук и общественный деятель, в своей книге касается болевых точек человеческой цивилизации начала XXI века – массового вымирания, сверхпотребления, пропасти между богатыми и бедными, последствий прогресса в науке и технике. Она объясняет правила, по которым развивается современная экономическая теория от Адама Смита до Тома Пикетти и рассказывает, как мы можем избежать катастрофы и изменить мир в лучшую сторону, чтобы нашим детям и внукам не пришлось платить за наши ошибки слишком высокую цену.

Последняя египетская царица Клеопатра считается одной из самых прекрасных, порочных и загадочных женщин в мировой истории. Её противоречивый образ, документальные свидетельства о котором скудны и недостоверны, многие века будоражит умы учёных и людей творчества. Коварная обольстительница и интриганка, с лёгкостью соблазнявшая римских императоров и военачальников, безумная мегера, ради развлечения обрекавшая рабов на пытки и смерть, мудрая и справедливая правительница, заботившаяся о благе своих подданных, благородная гордячка, которая предпочла смерть позору, — кем же она была на самом деле? Специалист по истории мировой культуры Люси Хьюз-Хэллетт предпринимает глубокое историческое и культурологическое исследование вопроса, не только раскрывая подлинный облик знаменитой египетской царицы, но и наглядно демонстрируя, как её образ менялся в сознании человечества с течением времени, изменением представлений о женской красоте и появлением новых видов искусства.
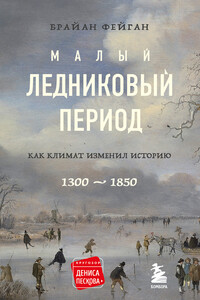
Представьте, что в Англии растет виноград, а доплыть до Гренландии и даже Америки можно на нехитром драккаре викингов. Несколько веков назад это было реальностью, однако затем в Европе – и в нашей стране в том числе – стало намного холоднее. Людям пришлось учиться выживать в новую эпоху, вошедшую в историю как малый ледниковый период. И, надо сказать, люди весьма преуспели в этом – а тяжелые погодные условия оказались одновременно и злом и благом: они вынуждали изобретать новые технологии, осваивать материки, совершенствовать науку.
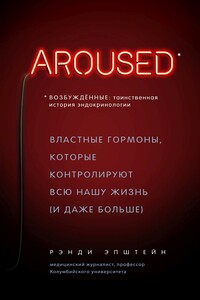
Перепады настроения, метаболизм, поведение, сон, иммунная система, половое созревание и секс – это лишь некоторые из вещей, которые контролируются с помощью гормонов. Вооруженный дозой остроумия и любопытства, медицинский журналист Рэнди Хаттер Эпштейн отправляет нас в полное интриг путешествие по необычайно захватывающей истории этих сильнодействующих химикатов – от промозглого подвала девятнадцатого века, заполненного мозгами, до фешенебельной гормональной клиники двадцать первого века в Лос-Анджелесе.
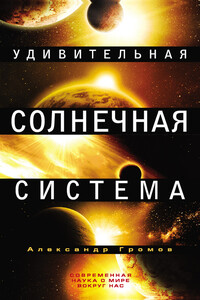
Солнечная система – наш галактический дом. Она останется им до тех пор, пока человечество не выйдет к звездам. Но знаем ли мы свой дом? Его размеры, адрес, происхождение, перспективы на будущее и «где что лежит»?Похоже, что мы знаем наш дом недостаточно. Иначе не будоражили бы умы открытия, сделанные в последние годы, открытия подчас удивительные и притом намекающие на то, какую прорву новых знаний мы должны обрести в дальнейшем. Уже в наше время каждая новая книга о Солнечной системе устаревает спустя считаные годы.