Гиршуни - [6]
Затем плавно подходило обеденное время, и мы спускались в столовую. По причине субсидированных цен в ней постоянно толпился народ: в основном друзья и родственники небожителей, всеми правдами и неправдами снабженные соответствующими пропусками. Иногда заглядывали и сами «постоянные» — проверить, соответствует ли размер и качество шницелей результатам последнего профсоюзного соглашения. После обеда я возвращался в свое рабочее кресло и дремал с полчасика, набираясь сил перед самым приятным этапом — кружками по интересам. Заботясь о том, чтобы работа содержала как можно меньше элементов беззастенчивой эксплуатации человека человеком, профсоюз организовал для служащих с десяток различных секций — разумеется, в рабочее время. Лично я регулярно посещал китайскую гимнастику, занятия индийской медитацией и курс практической магии, а также всерьез подумывал о танцах живота.
К трем, слегка подустав, я возвращался на место — как раз ко второму пришествию пресвятой Жаннет с ее чайной тележкой. Усевшись рядом с Гиршуни, она слово в слово повторяла свои утренние жалобы. К исходу первого месяца я выучил их настолько, что затыкать уши было бесполезно: я слышал, даже не слыша. В четыре полный свершений рабочий день заканчивался, и мы с Гиршуни отправлялись по домам, укрепленные гимнастикой, просветленные медитацией и полусумасшедшие от вынужденного, я бы даже сказал, насильственного безделья.
Почему я не сбежал оттуда сразу? Что держало меня в этом странном вертепе социалистического сюрреализма? — Не знаю. Честно говоря, сначала и бежать-то было особо некуда, разве что на улицу: для поисков настоящей работы следовало прежде подучить язык, осмотреться, освоиться. А потом уход стал казаться глупым: ну какой дурак станет дергаться, когда до перехода в статус небожителей — рукой подать? Вот получим «постоянство», а там посмотрим… — так или примерно так рассуждал я тогда. Но «постоянства» все не давали и не давали. К исходу третьего года мне стало ясно, что одуревшие мозги находятся на пороге необратимых изменений: я поймал себя на том, что с интересом слушаю ежедневные жалобы Жаннет. Линять! — решил я. — Немедленно линять! И вот тут-то, когда я уже окончательно собрался уходить, нам вдруг дали работу. Ту самую, настоящую работу, пережиток варварской античеловеческой капиталистической формации.
Отчего это случилось? Как произошло? — Трудно сказать. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, заключается в том, что уж больно область была новой, незнакомой: интернет. Нет сомнения, что и ей уготавливалось в нашей конторе самое что ни на есть светлое соцбудущее, но пока что… Пока это будущее еще не наступило, интернету предстояло честно пройти весь предусмотренный марксизмом путь общественного развития, начиная… гм… ну, скажем, с рабовладения. На роль рабов вызвались мы с Аркадием Гиршуни: я — радостно, он — наверное, за компанию. «Почему рабы? — спросит кто-нибудь. — Разве вы не получали зарплату?»
Получать-то получали, но совсем за другое: за своевременный приход и уход, за чаепитие, за посещение столовой и кружков по интересам… А вот интернетом мы занимались абсолютно бесплатно. То есть работали задарма, как наши предки на пирамидах.
Формально в наши обязанности входило обеспечение компьютерной безопасности, то есть охрана внутренних секретов учреждения от посягательств злоумышленных интернетовских хакеров. Секретов! Смех, да и только. О каких секретах могла идти речь, если организация не производила ничего, кроме сотни подписей в неделю? Но, видимо, этот факт и представлял собой самый большой секрет: известно, что тщательнее всего охраняется именно информация о том, что охранять, в общем, нечего.
Что ж, нечего — так нечего. От нечего делать мы и впрямь построили превосходную систему защиты. Денег никто не жалел; по первому требованию закупались дорогие устройства, программы, сервера — все, о чем только могли помыслить наши распаленные вседозволенностью головы. Мы разделили внутреннюю сеть непроходимыми брандмауэрами на небольшие полуавтономные сегменты; десятки внимательных датчиков круглосуточно анализировали каждый пролетный байт; любое отклонение от нормы фиксировалось центральной системой контроля и вызывало немедленную защитную реакцию; обмен данными шифровался; коды и пароли менялись часто и бессистемно… Это была поистине неприступная крепость! Крепость, защищающая звенящую пустоту, ноль, зеро, гурништ.
И в то же время мы ужасно гордились этим произведением искусства ради искусства. Мы надышаться не могли на свое творение, мы ласково оглаживали его, как, наверное, оглаживал Пигмалион свою мраморную Галатею. Изо дня в день, моделируя атаку потенциального противника, мы производили всевозможные проверки, дабы убедиться в бесплодности попыток проникнуть извне в пределы наших бастионов. Несуществующий враг не дремал; соответственно, и от нас требовалось постоянно совершенствовать, видоизменять и заново испытывать элементы оборонительной системы. Воображаемые и оттого неутомимые хакеры изобретали все новые и новые лазейки, вели хитроумные подкопы, удлиняли осадные лестницы, обходили ловушки, подкатывали к воротам все более и более устрашающие тараны. Они наступали со всех сторон сразу… хотя, тьфу!.. кто там наступал?.. кому на хрен сдались дурацкие секреты нашей конторы? — Никому! И тем не менее, мы упорно убеждали начальство и прежде всего самих себя в несомненном наличии этой на сто процентов выдуманной угрозы. Для чего? — Да просто для того, чтобы внести хоть какой-то минимальный смысл в нашу бессмысленную работу.

Алекс Тарн — поэт, прозаик. Родился в 1955 году. Жил в Ленинграде, репатриировался в 1989 году. Автор нескольких книг. Стихи и проза печатались в журналах «Октябрь», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал». Лауреат конкурса им. Марка Алданова (2009), государственной израильской премии имени Юрия Штерна за вклад в культуру страны (2014), премии Эрнеста Хемингуэя (2018) и др. Живет в поселении Бейт-Арье (Самария, Израиль). В «Дружбе народов» публикуется впервые.
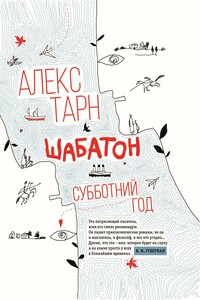
События прошлого века, напрямую затронувшие наших дедов и прадедов, далеко не всегда были однозначными. Неспроста многие из прямых участников войн и революций редко любили делиться воспоминаниями о тех временах. Стоит ли ворошить прошлое, особенно если в нем, как в темной лесной яме, кроется клубок ядовитых змей? Именно перед такой дилеммой оказывается герой этого романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
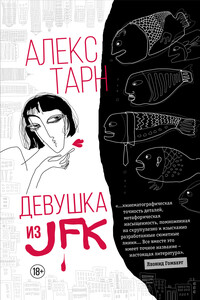
Бетти живет в криминальном районе Большого Тель-Авива. Обстоятельства девушки трагичны и безнадежны: неблагополучная семья, насилие, родительское пренебрежение. Чувствуя собственное бессилие и окружающую ее несправедливость, Бетти может лишь притвориться, что ее нет, что эти ужасы происходят не с ней. Однако, когда жизнь заводит ее в тупик – она встречает Мики, родственную душу с такой же сложной судьбой. На вопрос Бетти о работе, Мики отвечает, что работает Богом, а главная героиня оказывается той, кого он все это время искал, чтобы вершить правосудие над сошедшим с ума миром.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
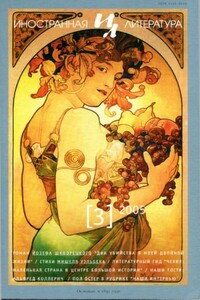
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
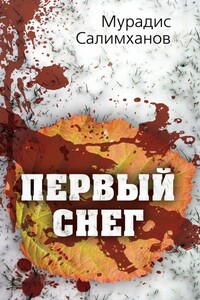
Автор – профессиональный адвокат, Председатель Коллегии адвокатов Мурадис Салимханов – продолжает повествование о трагической судьбе сельского учителя биологии, волей странных судеб оказавшегося в тюремной камере. Очутившись на воле инвалидом, он пытается строить дальнейшую жизнь, пытаясь найти оправдание своему мучителю в погонах, а вместе с тем и вселить оптимизм в своих немногочисленных знакомых. Героям книги не чужда нравственность, а также понятия чести и справедливости наряду с горским гостеприимством, когда хозяин готов погибнуть вместе с гостем, но не пойти на сделку с законниками, ставшими зачастую хуже бандитов после развала СССР. Чистота и беспредел, любовь и страх, боль и поэзия, мир и война – вот главные темы новой книги автора, знающего систему организации правосудия в России изнутри.
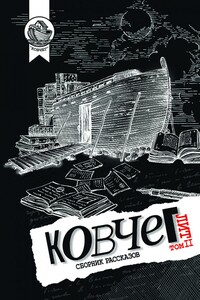
В сборник "Ковчег Лит" вошли произведения выпускников, студентов и сотрудников Литературного института имени А. М. Горького. Опыт и мастерство за одной партой с талантливой молодостью. Размеренное, классическое повествование сменяется неожиданными оборотами и рваным синтаксисом. Такой разный язык, но такой один. Наш, русский, живой. Журнал заполнен, группа набрана, список составлен. И не столь важно, на каком ты курсе, главное, что курс — верный… Авторы: В. Лебедева, О. Лисковая, Е. Мамонтов, И. Оснач, Е.
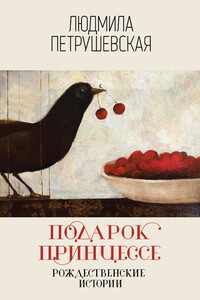
Книга «Подарок принцессе. Рождественские истории» из тех у Людмилы Петрушевской, которые были написаны в ожидании счастья. Ее примером, ее любимым писателем детства был Чарльз Диккенс, автор трогательной повести «Сверчок на печи». Вся старая Москва тогда ходила на этот мхатовский спектакль с великими актерами, чтобы в финале пролить слезы счастья. Собственно, и истории в данной книге — не будем этого скрывать — написаны с такой же целью. Так хочется радости, так хочется справедливости, награды для обыкновенных людей — и даже для небогатых и не слишком счастливых принцесс, художниц и вообще будущих невест.

«Сто лет минус пять» отметил в 2019 году журнал «Октябрь», и под таким названием выходит номер стихов и прозы ведущих современных авторов – изысканная антология малой формы. Сколько копий сломано в спорах о том, что такое современный роман. Но вот весомый повод поломать голову над тайной современного рассказа, который на поверку оказывается перформансом, поэмой, былью, ворожбой, поступком, исповедью современности, вмещающими жизнь в объеме романа. Перед вами коллекция визитных карточек писателей, получивших широкое признание и в то же время постоянно умеющих удивить новым поворотом творчества.
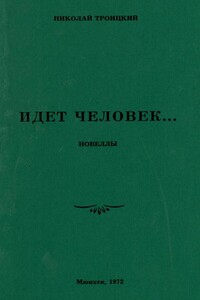
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.