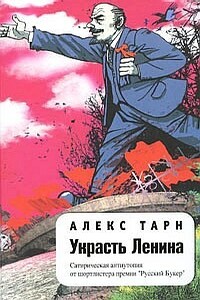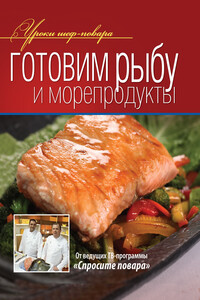1.
Чувство было неприятное, как от повестки в суд. Когда просыпаешься поутру и сразу — вот она, бесформенная гнетущая тяжесть, лежит на сердце студенистой медузой, ящерицей шастает вдоль позвоночника, жадно чмокает, присосавшись к священным водам беззащитной души твоей. Бр-р-р… Что такое, откуда, почему? Отчего так плохо-то, братцы? Вроде и не пил вчера… И тут наконец вспоминаешь: а… ну да… конечно… повестка в суд! Неприятно-то как…
Только чушь это все, лажа, ерунда. Нету никакой повестки, и суда нету. И насчет просыпания… или как там… пробуждения?.. да, и насчет пробуждения тоже говорить не приходится, хотя бы потому, что спит он, Яник, спит, дрыхнет, как сурок, и все никак ему не проснуться, а надо бы, ох как надо, но — не получится, это он точно знает, не получится, пока не дойдет до младенца, ага, до младенца — до последнего, знакомого, заранее известного кадра в этом бессвязном и назойливом киносне. Проснись! Проснись! Нет, куда там…
Сейчас ему показывают дорогу… или даже не дорогу, а какую-то широкую утоптанную тропу, пыль крупного помола, заросли кустарника и хрустящие от солнца холмы бурого летнего цвета. Против этой картинки он ничего не имеет — знакомые, милые сердцу места. Иудея? Шомрон? Беньямин? Где-то там, не иначе… С ним-то все в порядке, с пейзажем то есть. Чего никак не скажешь о ногах. Ноги ужасны — какие-то задубелые растрескавшиеся коряги, а не ноги. Босиком, по мелким камешкам, по колючкам, по раскаленному песку, по острым гранитным сколам… нет, это ни в коем случае не могут быть его, яниковы, ноги.
Это явный перехлест, даже для ночного кошмара. «Где она, правда жизни?» — взывает Яник к зарвавшемуся режиссеру — из сна, как из кинозала. Мы ведь босиком, знаете ли, не ходим, все больше — в обуви; у нас даже и детство «босоногим» не назовешь; даже по травке — в туфельках, даже на пляже — в шлепанцах: а вдруг стеклышко или какая другая пакость?.. пятки наши нежны, как мочки на ушах; нет, перехлест, враки, господин режиссер, так в жизни не бывает, отредактируйте, переснимите, будьте так любезны, дубль шестьдесят седьмой бе, мотор!
Только какой там мотор… нету тут никакого мотора; ни мотора, ни асфальта, да и вообще ничего цивильного не наблюдается, одна лишь пустыня под ослепительным небом, и пыль, и бурые растрескавшиеся холмы, и бурые растрескавшиеся ноги — его ноги — размеренно и неторопливо — по мелким камешкам, по колючкам, по раскаленному песку, по острым гранитным сколам — раз-два, раз-два, раз-два… Куда? Зачем?
Непонятно — куда, непонятно — зачем, только мертвая тяжесть в сердце, только щекочущее предчувствие плохого под ложечкой… и дышать трудно, ко всем прочим радостям, и ноет в животе, и пот — со слезами пополам — ест поедом твои наглухо закрытые, безнадежно спящие глаза… Проснуться бы, Господи! Проснуться бы… — дудки, никак. Но все-таки, отчего это так тяжело? Не иначе — повестка в суд или еще что в том же духе… в общем, беда тебе, Яник, карачун с прибамбасами, неизвестная страшность в неопределенном будущем — то ли завтра, то ли через год, а может, и прямо сейчас, вон там — за этим вот ближним поворотом.
Раз-два, раз-два… мерно чередуются ноги-коряги, приближая поворот. И ведь главное — сам виноват, идиот; был поворот как поворот, не страшнее прочих, и черт же тебя дернул такое про него подумать — и вот он, результат… короче — сам напросился, кретин. Что ж теперь делать? Что делать? Сколько там осталось? — сто метров?.. девяносто?.. нет, теперь уже меньше. Проснуться бы… нет, не дадут. Господи, страшно-то как. И вокруг — никого, ни единой живой души, даже птицы куда-то подевались, даже кузнечики молчат. Один на всем свете.
Перед самым поворотом — сухое русло и дерево. Тянет узловатые ветки, хватает за плечо, цепляется колючками за рубаху: «Куда ты, глупый?.. не надо тебе туда, вернись!» Раз-два, раз-два… Вот оно.
Вот она, старая знакомая, чертова бабка-ежка — стоит перед ним, подслеповато моргая выцветшими глазами. Белая тряпка на голове, фиолетовая юбка с разводами, малиновая шерстяная кофтень да еще и синяя безрукавка поверх. Вырядилась карга — в такую-то жару! А впрочем, нет уже и жары… — была, да сплыла; и неба больше нету, и холмов, и даже ног твоих бурых не видно, Яник. Всего-то в мире и осталось: ты да старая ведьма… да еще он — младенец у нее на руках. Он-то тут и главный, дураку ясно. То ли год ему, то ли два, черт его знает; спит себе спокойно в байковом своем свертке.
«Возьми его…» — нет, это не старуха; старуха молчит.
Молча протягивает она Янику коричневый сверток с желтой каймою — бери, мол, бери… Но Яник не берет. «Кто ты? — кричит он. — Что тебе надо от меня, старая сука? Что вам всем от меня надо? Оставьте меня в покое! Пошли вы все…» И рывком просыпается.
На часах — шесть с копейками. Считай, что и не спал совсем. Яник садится на койке и хмуро свешивает кудлатую нечесаную башку. Проклятый сон! Когда же это кончится?.. Немытый линолеум пола не дает ответа. Зато в углу вдруг неожиданно возбуждается старый холодильник. Для начала он оглушительно стукает чем-то по чему-то, затем, радуясь жизни, дважды подпрыгивает, торжествующе выдает какую-то особенно праздничную руладу и наконец переходит на равномерное оптимистическое урчание.