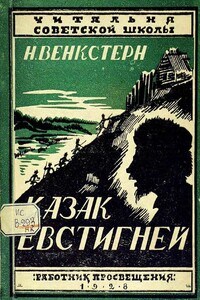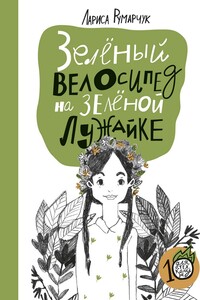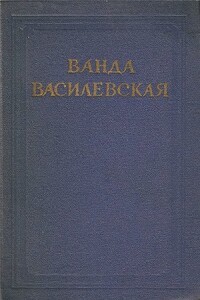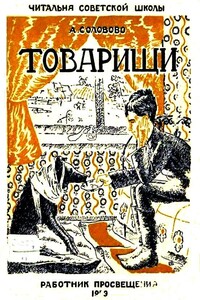Под вечер второго дня Нидерманн забрался на пригорок, чтобы оглядеть с вершины окрестности. Норос стоял внизу. Вдруг Нидерманн начал делать ему знаки рукой, указывая на ружье. Норос вбежал вслед за ним на пригорок.
Саженях в трехстах от них паслось стадо оленей. Их было голов 12. Одни отрывали траву из-под снега, другие стояли на часах, а некоторые отдыхали, лежа на земле. Норос затрепетал. Один из этих оленей, убитый ими. спасет не только разведчиков, но и весь отряд, к которому они немедленно вернутся, нагруженные мясом. Он подал ружье Нидерманну.
— Я не могу, — сказал он, попробуй ты.
Нидерманн, никогда не терявший хладнокровия, снял тогда свое тяжелое платье, чтобы двигаться с большей свободой, и полез к животным по снегу. Норос закрыл лицо руками… сердце его билось.
Нидерманн уже в 100–150 саженях от стада… Вдруг один из оленей заметил его, закричал, и вспугнутое стадо бросилось прочь со своей стоянки. Нидерманн вскочил на ноги и послал вслед убегавшим три пули, уже дрожавшей от волнения рукой. Все было напрасно, олени исчезли в снежном тумане.
Когда он, смущенный и убитый, обернулся, Норос лежал, зарывшись головой в снег, и все тело его сотрясалось от рыданий.
— Я все сделал, что мог, — тихо сказал Нидерманн, — видно не судьба!
Еще два дня пути, ночевка в логовище, которое пришлось вырыть в снежном сугробе, а кругом все то же, и нигде не видно признака человеческого жилья.
Нидерманн стал с ужасом замечать, что его товарищ с каждым часом слабеет. Он видит, что вместо твердой походки он идет каким-то спотыкающимся шагом, а в его глазах он встречает выражение того равнодушия, граничащего с безумием, которое видел в глазах Ax-Сама у ног умирающего Эриксена.
«Что я буду делать, — думал Нидерманн, — если Норос окончательно не будет в состоянии двигаться дальше? Оставить его одного? Но разве я могу бросить умирающего товарища? Остаться с ним? Но это значит потерять всякую надежду на спасение отряда».
Нидерманн отдал Норосу свою порцию алкоголя, и его друг безучастно принял эту жертву. Вечером Нидерманну удалось набрать немного хвороста, и, разведя огонь, он разварил в воде несколько кусков тюленьей кожи, вырезанной из сапогов. Норос жадно жевал и глотал омерзительную пищу.
На седьмой день пути матросы уже не шли, а брели, опираясь друг на друга. Это были только тени людей, и все же Нидерманн не хотел умирать, Спасти товарища во что бы то ни стало, бороться до конца, до последнего издыхания. И, однако, через каждые полчаса оба ложились на снег, чтоб отдохнуть немного.
Наконец, в один из таких привалов, когда Нидерманн тяжело поднимался, чтобы двинуться дальше в путь, Норос остался лежать. Нидерманн нагнулся к нему.
— Нор! надо идти!
Норос открыл глаза и несколько мгновений молча глядел на него.
— Нор, прошу тебя… еще маленькое усилие. Видишь, я встал, я пойду!
Горькая усмешка пробежала по лицу Нороса.
— Зачем? — сказал он и снова закрыл глаза.
Тогда в глубоком отчаянии Нидерманн упал на колени около товарища. Все погибло! Теперь больше нет надежды! Ему остается только лечь рядом с Норосом в снег и ждать смерти. О, если бы она пришла поскорей! Он оглянулся по сторонам, как бы призывая эту желанную смерть, и вдруг… Что это? Неужели это игра расстроенного воображения? Саженях в трехстах от него — небольшая избушка, полузанесенная снегом. Жилье или по крайней мере убежище от холода. Как он мог не заметить ее раньше?
Нидерманн нагибается над Норосом и отчаянно трясет его за рукав.
— Нор! Нор! Жилье, избушка!
Норос ничего не отвечает, он закрыл глаза, ему уже ничего не хочется, кроме смерти.
Тогда Нидерманн напрягает свои последние силы и поднимает товарища на плечи.
Правда, он уже не тяжел, этот полускелет, но для Нидерманна это непосильная тяжесть. Он спотыкается, падает, вновь поднимается и все же идет… идет.
Наконец, он у хижины, он отворяет дверь, и первое, что ему бросается в глаза, — это висящая в углу хижины связка сушеной рыбы. Рыбы, покрытой плесенью, ссохшейся, испорченной, но все же рыбы, пищи! Они спасены!
Ужин у костра, в избушке, которая кажется необычайно уютной после снежного поля, возможность просушить одежду, видеть в глазах Нороса вновь появляющийся огонь жизни, слышать его слабый голос: «Спасибо, друг, без тебя моя песенка была бы спета»… Все это счастье для Нидерманна, но счастье, которому нельзя отдаться, счастье, которого приходится стыдиться благодаря тому, что неотвязная мысль сверлит в мозгу: «А что там, в отряде? Живы ли? Мы здесь отдыхаем, а они… нашли ли они хоть что-нибудь для утоления голода?» И, несмотря на нечеловеческую усталость, ему хочется идти дальше, дальше за людьми, за помощью.
Рано утром собрались было снова в путь, но, когда они стали приготовляться к дальнейшему походу, Норос вдруг почувствовал себя до такой степени слабым, что поневоле пришлось отложить всякое попечение о дальнейшем походе.
Он жалобно и смущенно глядел на Нидерманна, который боялся встречаться с ним глазами. Он, шатаясь и держась за стену, делал последнюю попытку собраться в путь.
— Нид, — тихо позвал молодой человек, — я хотел бы идти, Нид. но, видишь ли, какие бы я ни делал над собой усилия, это все равно бесполезно.