Гибель всерьез - [99]
Мы успели забыть, что опера в свое время была решением давно назревших проблем и безусловным шагом вперед, что только теперь она превратилась в заведомую условность, презираемую авангардистами и обреченную ими на гибель точно так же, как и роман. И в романе, и в опере видят пережиток феодализма, который должен отмереть с прогрессом в обществе. Но где же диалектика? Не породит ли социальный прогресс новые эмоциональные потребности, подобно тому как это было во времена итальянского Возрождения, когда зародился прообраз оперы, и не обновится ли таким образом старый вид искусства. Разве изобретенная в шестнадцатом столетии опера не задает в двадцатом тех же самых вопросов, какие мучают у Берлиоза Альфонсо делла Виолу? Вопросы остались, хотя сейчас уже не поют ни в унисон, ни в октаву, и уже изобретены сольные партии. И разговор об Омеле мне хочется начать с цитаты из Стендаля — вот как рисует он портрет госпожи Паста: «Пожалуй, не найти задачи более трудной: язык музыки неблагодарен и необычаен; мне сплошь и рядом будет не хватать слов для выражения моей мысли, выпадет счастье такие слова отыскать, они будут не очень понятны читателю»[128]. И вот еще что говорит Бейль о певице: «Какими словами передать те божественные наития, которыми проникнуто пение госпожи Паста, и те возвышенные и необычайные чувства, которые она дает нам пережить! Это великая тайна; это намного выше возможностей поэзии и всего того, что резец Кановы или кисть Корреджо может рассказать нам о глубинах человеческого сердца»[129]. Что сказал бы сегодняшний Стендаль о пении Ингеборг д’Эшер? Не о фистуле, не о фиоритурах идет речь, но о том, что певица ищет путь к потайным глубинам человеческого сердца, пение ее романтически возвышенно, сомнения нет, и о ней, а не о г-же Паста пишет Стендаль: «В любви-страсти мы часто говорим языком, который нам самим непонятен, душа видит насквозь другую душу, и это не зависит от слов»[130]. Я не вижу в высказанном ничего специально феодального и убежден, что опера, пусть даже музыканты в этот миг отвернулись от нее, очень скоро найдет для себя новые формы, соответствующие нашей изменившейся жизни. В любом случае ничто и никогда не давало мне ощущения души, говорящей с душой, явственнее пения Омелы, даже когда она пела произведения, которые теперь считаются устаревшими; я продолжаю цитировать все того же автора, поскольку он, описывая искусство певицы, дает, на мой взгляд, лучшее объяснение тому, что я имею в виду: «Я называю созданиями этой великой певицы те выразительные средства, которые, может быть, и вовсе не приходили в голову писавшему партитуру композитору»[131].
«Стендаль, — говорит вдруг Ингеборг, — мне кажется, любил музыку до безумия и поэтому ничего в ней не смыслил». Одной ее фразы довольно, чтобы мысли мои потекли в другом направлении.
Я никогда не настаивал, а она всегда уклонялась от чтения моих произведений, но на этот раз я решил, пусть она прочтет пять-шесть страниц, непосредственно касающихся ее, утаив, разумеется, убийственные замыслы относительно Антоана. Не могу же я писать о музыке и хранить все это про себя, живя рядом с Омелой. Она должна меня понять. А может, уже поняла? Она пообещала прочитать после завтрака, но оказалось, что забыла про гостей, а они пришли навестить ее… потом необходимые покупки… А вечером уже так устала… Однако наутро я опять появился, держа в руках рукопись и упрямо набычив лоб. Ну, так и быть. Она смирилась со своей участью. А все-таки, за что она напала на Стендаля?
«Стендаль, — пояснила она, — тщится истолковать музыку, как истолковывал живопись, но сегодня, при всем уважении к классику, такие суждения безнадежно устарели. Он говорил о «творческом начале пения», и его заслуга в самой постановке вопроса. Но как мы можем знать, справедливы или нет его слова по сути, если о вокальном искусстве тех времен до нас дошли только словесные оценки! Мы еще можем представить себе, как пели Карузо, Шаляпин, Лина Кавальери, хотя записи оставляют желать лучшего. В будущем дискотеки дадут возможность сравнивать голоса, талант, технику и души тех современных певцов, которые, как говорила Малибран, «умеют петь музыку», я люблю это выражение. Но певцы прошлого… И даже сама Малибран, хотя, знаете…»
И тут зеркало обратилось к ней самой, воодушевленной искусством Малибран. Мы сидели в рабочем кабинете Омелы возле большого книжного шкафа из ландской сосны и электрического пианино — забыл, как оно там называется, — на котором она обычно что-то наигрывает, когда читает. Омела откинулась в своем кресле темно-красной кожи, на столике рядом телефон — злая собачонка, которая только и ждет самого неподходящего мига, чтобы прервать хозяйку; большой квадратный пуф, который превращает кресло в шезлонг, она отодвинула и позволили мне сесть на него. Вернее, я сам пристроился, как люблю, на коленках. Она сказала:
— Стендаль, да, конечно… а помнишь Мюссе?
Я без запинки процитировал:
— Могла ль ты «Иву» петь, бледнея, Дездемона?
Какие другие стихи могли мне прийти на память у ног Ингеборг? Она улыбнулась, моя Дездемона. Улыбка призрачная, отсутствующая. Сердце ее не слышит, что и вместе с Мюссе, и без него я думаю только о ней. Она грезила о Мари Малибран. Я не сразу понял, почему Омела вспомнила эти стихи, но она попросила меня взять книгу и прочитать ровно восемнадцать строк, не больше, «я не помню их наизусть, прочитай, пожалуйста» — она сказала мне «ты», будто Антоану. Строфы XXI, XXII, XXIII:

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
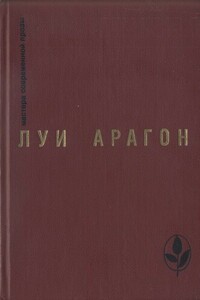
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
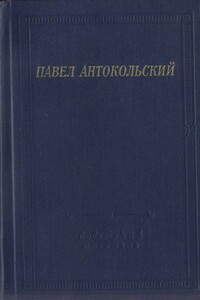
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

