Гибель всерьез - [97]
Годами отворачиваешься и молчишь.
И когда я вдруг обнимаю тебя, когда уже больше не могу, когда любовь, как музыка, переполняет меня, захлестывает и тело, и душу, — руки мои обнимают пустоту, я всегда не вовремя, всегда некстати, и ты внутренне сжимаешься, застываешь, будто пережидаешь внезапный дождь… Ты говоришь: «вокруг люди», или «прислуга рядом», или «здесь не место, подожди до дома»; правда, правда, что на меня накатывает ни с того ни с сего и в неподходящем месте, правда, что мы уже немолоды и я смешон. Ну ладно, подождем. Вот мы и дома. Но ты и тут вся застываешь, как перепуганная птица. У птицы под нежным пушком колотится сердце. А у тебя оно замирает, так что теперь пугаюсь я. Бывает, мы идем по темному коридору, ты так близко от меня, я не могу удержаться и притягиваю тебя к себе, ты ничего не говоришь, ты знаешь: в словах нет необходимости, я и так почувствую твое напряжение, твою отчужденность. Ах, это неуловимое движение шеи, отведенные плечи, сопротивление тела. «Ты меня не любишь!» — вырывается у меня. Ты не возражаешь, смотришь на меня, словно на неразумного ребенка, это можно понять и как опровержение моих слов, и я бы утешился, если бы мог утешиться такою ложью через умолчание. Таким успокоительным. У меня застарелая болезнь сердца — я болею тобой. Но уговариваю сам себя: все не так серьезно, вот и на этот раз прошло. Успокаивает и врач. И все вокруг. На самом деле это не сердце болит. Так всегда: вон сколько людей думают, что у них астма, а у них спазм, чисто нервное. Так успокаивают самые болезненные приступы — нервное и все тут. А раз нервное, никакой боли быть не должно, таков постулат. Ты отстранилась, и луч света лег тебе на щеку… а я в тени, я блуждаю в потемках, как последний дурак или, что еще хуже, как мальчишка — в мои-то годы! — который осмелился взглянуть на женщину. Мальчишка может думать: «Вот на будущий год…» Но отложить любовь до будущего года нельзя, любишь сейчас, все время, всегда. А ты меня не любишь. Омела говорит: «Сегодня вечером… когда у тебя будут черные глаза…» Жуткая игра. И когда еще будет этот вечер, вся жизнь проходит в ожидании вечера, а когда он настанет, я буду стариком. У меня был друг, он покончил с собой. Из-за женщины. Давно уже. Она не бросила его, не обманула… она, я даже думаю, его любила. Бывает же, что женщина действительно любит мужчину. Но она любила по-своему. Довольно сдержанно. И вот в один прекрасный день, — это так говорится — день, хотя был не день, а вечер, вернее, ночь, — мы с ним пошли пройтись, и он стал говорить о ней. В те времена я еще не был знаком ни с Омелой, ни с мадам Ингеборг д’Эшер. Я все помню. Помню, что он сказал мне и чего я никому не повторял, да и теперь не знаю, можно ли… Хотя никто не поймет, о ком речь, я и теперь постарался замаскировать его… Так вот, он мне сказал: если сосчитать поцелуи, не те, что были даны и получены, а другие, лишь трепетавшие на губах и не понадобившиеся, мертворожденные, отвергнутые поцелуи… Его жена казалась ему красавицей, мне — нет. Но я не договорил. Так вот. Он сказал, что если сосчитать все эти поцелуи, то можно умереть от горя. В ту последнюю ночь мы с ним бродили до зари, я не решался оставить его, а он то и дело просил: поклянись, что расскажешь ей, и это тоже… — я послушно клялся… — а еще скажи ей… Наконец мы расстались неподалеку от вокзала, я засыпал на ходу, мне уже не верилось в то, что я сначала принимал всерьез, все стерлось, казалось преувеличением… конечно, он не сделает такой глупости, почему-то всегда говорят: «такой глупости», и я точно так же подумал. Скажи ей… Я ничего не сказал. У меня не хватило жестокости. Я сохранил про себя все, что поклялся передать. Только рассказал, как он погиб. Но даже Омеле ни слова не сказал о той ночной прогулке. Он разговорился случайно, виной всему музыка. В каком-то жалком кафе, на Монмартре, где все как нарочно подобрано, чтобы вернуть вас в прошлое: безвкусица, тусклый свет, пыльные шторы. И даже, с позволения сказать, оркестр, который играет вальс 1900 года под названием «Погибшие поцелуи». Так часто бывает: казалось бы, невинные слова внезапно обретают смысл. Например: «Ты меня не любишь». Или еще, кстати, тоже из ресторанной музыки: «Ах, эти черные глаза». Нет, не так-то просто убить Антоана.
Мне кажется, я ничего не могу сказать об Омеле, чтобы тут же не покраснеть, она для меня так физически ощутима, вся, даже ее душа, что любым своим словом я как бы нарушаю границу дозволенного. Самый незначительный пустяк, если он относится к ней, сбивает меня с толку, я не знаю, можно или нельзя его упоминать. Буду я художником, я не уверен, что решился бы написать ее глаза; а если бы был художником гениальным и сумел бы изобразить их такими, какими вижу, то картину мою нельзя было бы выставить, опасаясь скандала. Я не знаю, что почувствовала бы Омела, если бы увидела себя такой, какой вижу ее я. Я люблю, как дикарь, и слова лишь чуть-чуть прикрывают неистовство. Об Омеле я говорю, словно я пьян, и нет улицы достаточно широкой для моих слов, небо кружится над головой, и на каждом шагу я готов упасть, чуть завидев ее. Вы скажете — что за безумие: есть женщины куда красивее, да она и не молода уже, у нее столько изъянов, но я вам не поверю, даже если согласно кивну головой ради возможности хоть как-то продолжать разговор. Ведь я совсем о другом. Как это объяснить: вот, например, ее рука — как плавно, как гибко перетекает она от плеча к запястью, и если мысленно дотянуться до пальцев… ее тонких пальцев… что творится со мной, если она задержит свою руку в моей, пусть на миг — какое мучительное смятенье, но совсем не того свойства, как вы воображаете. Или вот еще: ни мысленно, ни словесно я не называю «запястьем» то изумительное плавное перетекание, напоминающее мне первое веяние весны, — как можно обозначить скучным анатомическим термином, который равно служит как мужчинам, так и женщинам, еще и это, — для другой женщины, ладно, наверное, сошло бы и запястье, но для Омелы! — про себя я говорю «преклонение руки» и благодаря этому слову словно бы присваиваю ее себе, словно бы становлюсь господином, накладываю свою руку и… оказываюсь в плену, покоренным, в руки берут меня, я ручной, я — раб. Видите, передать все это невозможно, так что лучше поговорим о другом.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
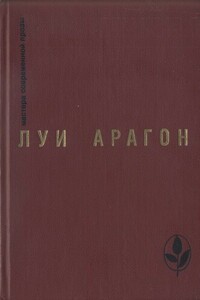
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
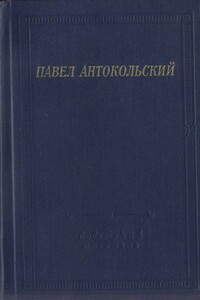
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

