Гибель всерьез - [7]
Итак, молодой человек… собственно, не так уж он и молод. Смотря с кем сравнивать. Так или иначе, он уселся в глубокое кресло, положил руки на подлокотники, вытянул ноги и принялся поигрывать пальцами с весьма самоуверенным видом. Антоан Бестселлер устроился за письменным столом, заваленным дожидавшимися ответа письмами, достал из папки искусственной кожи два листка с такими затрепанными краями, будто их много раз читали и перечитывали, брали с собой в дорогу, перекладывали с места на место… «И это все?» — спросил относительно молодой человек с надеждой, облеченной в форму вежливого сожаления. «Да, — сказал Антоан, — во всяком случае, все, что я собираюсь тебе прочесть…» Он надел очки в черепаховой оправе, прокашлялся и погладил двумя пальцами столешницу вишневого дерева. Пусть я больше не вижу себя в зеркале, думал он, зато могу смотреться в людей, и этот малый — тоже зеркало не хуже других. Даже если будет притворяться. Я разгляжу себя в его словах. Так или иначе, он все равно выдаст себя, и я пойму, каким он меня видит…
И Антоан прочел наконец свои две странички, которые войдут, а может, и не войдут, в будущий роман. Это будет, помимо всего прочего, зависеть и от того, как отнесется к ним гость. Он, конечно, тоже писатель. И талантливый. Весьма талантливый. А главное, он успел привыкнуть к манере Антоана. Вот эти страницы.
«Гости, а их было пять или шесть человек, уже собирались уходить, и ты искала, что бы подарить твоей знакомой американке, которая на другой день Бог знает куда уезжала, и тут кто-то меня спросил: «А что вы сейчас собираетесь писать?» Как им не терпится, подумал я. Но правда, что я собираюсь писать? И неожиданно для себя ответил: «Книгу о ревности… вроде «Отелло»…» Мари-Луиза расхохоталась: «Отелло? Вот это да! В наше время — Отелло!» «А что? — возразил кто-то из мужчин, — вполне современно… Кипр… Фамагуста…» Я не заметил, что ты успела вернуться с флаконом духов, и вдруг услышал твой голос: «Отелло? Да я тебе просто запрещаю!»
… Нет, все это я выдумал, не было никаких гостей, ничего ты мне не запрещала. Я и слова не сказал про Отелло. Но все-таки почему я вообразил, что ты мне запретила касаться этой темы, сюжета, героя? Ты отлично знаешь, что я по натуре ревнив, хотя и не подаю вида и никогда тебе этого не показываю. Так почему же тебе вздумалось запрещать мне писать о ревности? Хватит одного этого вопроса, чтобы лишний раз уколоть меня в сердце. Ты же знаешь, как я люблю «Отелло»: пьесу и оперу, Шекспира и Верди (Россини я не слышал). И что мне хочется сочинить что-нибудь на эту тему… Впрочем, я понимаю, для тебя дело не в самом Отелло как личности. Дело в ревности.
Ты не хочешь — то есть мне так представилось, — чтобы я касался этой стороны нашей жизни. Но чего ты боишься? Господи, да это не ты, это я боюсь. Боюсь того, что ты мне ответишь, если я и впрямь спрошу тебя. Хотя, скорее всего, ты не ответишь ничего. Просто пожмешь плечами. И тем самым поселишь во мне сомнение, обречешь на мучительную неизвестность. Поэтому я не стану спрашивать тебя, а поступлю как обычно, сам буду размышлять и делать выводы…»
Антуан снова прокашлялся, нарочито медленно отложил первый листок и подержал на ладони второй, тоже исписанный убористым почерком. «Тебе не надоело? Нет? В самом деле?» — осведомился он и стал читать дальше.
«Женщины, исходя из собственных воззрений, внушили мне, что ревность — чувство постыдное. Что не уступить внезапному влечению к кому-то постороннему просто грешно. Если я не могу удержать женщину, то должен пенять на себя: значит, мне чего-то не хватает, а чем виновата она? Ну а то, что мне больно, это уж моя печаль, ведь если я порежусь, то не стану упрекать нож, а перевяжу руку, которой неловко схватился за лезвие.
С ранней молодости женщины приучили меня терпеть и молчать, и я им благодарен — благодарен за то, что они избавили меня от позора выставлять свою боль на всеобщее обозрение, подобно тем пошлякам, которые громко жалуются и Богу, и соседям, что их недооценили. Правда, сделать так, чтобы ревность не терзала мою душу, женщины не могли. Но я всегда презирал тех, кто не прошел такой суровой школы и выказывал свою обиду на то, что ему предпочтен другой. А непреложное право милостиво даровать прощение, которое мужчины себе присвоили, я всегда считал пережитком варварских времен. И если бы, одумавшись, женщина вернулась ко мне, я бы счел грубой бестактностью попрекать ее.
Ты возразишь, что я, должно быть, никогда по-настоящему не любил. По-моему, любил. Хотя, возможно, я и ошибался, но кто, кроме меня, может судить, как сильно я страдал, когда эта любовь — настоящая или нет — оставалась безответной. Некоторых женщин я со временем забыл: не помню ни лиц, ни имен, — но боль, которую они мне причинили, помню отлично, она прочно запечатлена в моей памяти. Впрочем, что тут рассказывать. Если я промолчал тогда, то, уж конечно, не затем, чтобы спустя столько лет кичиться своим стоицизмом.
Но даже если ты права, если я не любил тех, из-за кого молчаливо страдал, вообрази, насколько ужаснее были бы эти муки, когда бы я действительно любил. И представь себе, каково мне, когда источник мучений — ты.

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
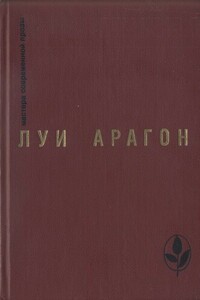
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
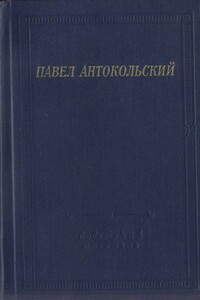
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

