Гибель всерьез - [26]
«Помнишь, как там дальше? — спросил Кристиан. — Вот уж не думал, что ты на такое способен… Никогда не считал тебя особенно тонким психологом. Дальше самое главное, в следующих строчках… «Мы все как бы раздвоены. Наше время когда-нибудь, возможно, так и назовут: эпоха раздвоений. Вот и моя жизнь всегда распадалась на две части…»
По воодушевлению Кристиана, запомнившего весь отрывок от слова до слова, я понял, что час откровения пробил. Подгонять его я не хотел: один неосторожный вопрос, один намек на то, что я знал от Ингеборг о существовании его второй жизни, любая преждевременная попытка затронуть эту тему могли бы спугнуть Кристиана как раз тогда, когда он сам настроился на исповедь. Но он топтался на месте и все с каким-то бестактным упорством твердил, что, если бы не эти строчки, он ни за что не поверил бы, что я могу так глубоко вникнуть в его, именно его психику, так что я, признаться, почувствовал обиду и не удержался, чтобы не показать ему, как сильно он заблуждался насчет моей тонкости. Собственно говоря, начал я, одни и те же слова могут подразумевать разные вещи: в наш век сколько угодно людей, ведущих двойную жизнь, но одно дело те, кто, наподобие героя с Бэк-стрит, самым банальнейшим образом живут на два дома — такое раздвоение давным-давно приелось сочинителям. И совсем другое — Жозеф Кенель: он не просто ловко разделил свою жизнь на две половины — одна в уютном особняке в Нейи-Сент-Джеймс, другая в квартире в Ла Мюетт, снятой для некой девицы и наспех обставленной в ее вкусе. Это годилось бы для ушедших времен, когда не было еще ни фашизма, ни дадаизма. Нет, у моего героя, моего Кенеля, раздвоение не внешнее, между двумя жилищами, а внутреннее: двойственно само его существо, каждая его мысль. Всегда и на все у него одновременно два взгляда, и ни один из них он не может предпочесть другому; обо всем, от зубной щетки до любви или войны, два сосуществующих и взаимоисключающих суждения. В нем одном живут два человека, в равной мере несовместимых и неразделимых. В Кристиане же я прозревал независимо от того, какой представлялась мне его жизнь… о, совершенно независимо от этого… признаки недуга более сложного, более интересного, которые уже наблюдал у других, например, у Антоана…
Я явственно видел, как мгновенно исказилось лицо моего собеседника, но твердо решил припереть его к стенке, вынудить наконец признаться мне, человеку, которому он спас жизнь, во всем, что он до сих пор скрывал. Или думал, что скрывал. Словно ненароком я коснулся той, выражаясь его словами, «сцены с зеркалом» и дал ему понять, что я не такой уж простак, и если не придал ей особого значения, то не по глупости, а скорее из деликатности. По мере того как я говорил, Кристиан несколько раз менялся в лице — или он просто поворачивал голову и это мне мерещилось? — поначалу, казалось, встревожился, потом усмехнулся и, наконец, принял безразличный вид. Он вежливо слушал, но время от времени нервно подергивал левым плечом и тут же хватал сам себя за руку, как будто правая удерживала готовую взбунтоваться левую. Дабы приблизить развязку, я рассказал ему все, что знал о людях, потерявших отражение, а в заключение добавил, что не вижу другого объяснения его поведению в «сцене с зеркалом», кроме того, что и с ним стряслось то же самое или нечто подобное.
Услышав это, Кристиан улыбнулся — его улыбка напоминала вздох облегчения, когда отступает страх, и протянул мне пачку турецких сигарет с приторным запахом розы, сделанных, как было написано на пачке, для ввоза в Германию. В тот раз он сказал мне только, что мои догадки неверны, что он понятия не имел о людях без отражения и что хотя — конечно же! — это страшно интересно, но к нему — увы! — никакого отношения не имеет, — он бы и рад, нет, правда, но что поделаешь. Может, ему расхотелось откровенничать? Тогда я склонен был думать именно так, потому что при всей своей насмешливой холодности он явно волновался по ходу разговора, хотя и не желал этого показать. Что ж, я стал дожидаться другого, более подходящего для доверительной беседы момента, а порой даже делал безуспешные попытки подстроить такие моменты.
II
Однако чем больше я думал о «сцене с зеркалом», тем больше укреплялся в мысли, что все поведение Кристиана: то, как он поставил меня перед трюмо, и то, как заглядывал в него сзади, — могло объясняться только желанием проверить, во-первых, на месте ли мое отражение, а во-вторых, по-прежнему ли не отражается он сам. Во всяком случае, мне припомнилась история, которую рассказывал Антоан Бестселлер, о том, как Ингеборг чуть не открыла тайну своего возлюбленного. Правда, здесь было все наоборот, но суть-то одна. Не уточняя для чего, я заставил Антоана рассказать о его недуге во всех подробностях. Они могли пригодиться мне для следующей встречи с Кристианом. Некоторое время спустя Кристиан, казалось, сам навел меня на эту тему. Он снова заговорил о моем романе, в котором его интересовала только теория раздвоения, и привел слова Грезенданжа, когда он, лежа в постели, говорит жене: «Знаешь, Жозеф Кенель все твердит о двойниках… дескать, все мы в нынешнее время раздвоены… в каждом из нынешних людей — два человека… Один выполняет свои обязанности в обществе, второй не имеет с ним ничего общего, может даже не ладить с ним, ненавидеть его… в общем, совсем другой человек!»

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
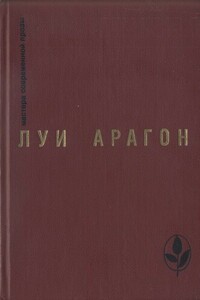
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
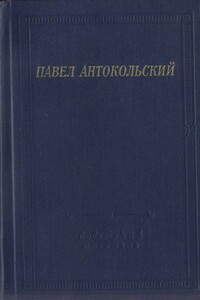
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

