Гёте - [40]
«Щучье веление» было на деле велением стереотипа обезличенной научности. С наукой у Гёте не могло быть никакого конфликта; именем науки с ним боролась, третировала его так называемая научность, нивелированная и дегуманизированная власть учебников и общезначимых мнений, хайдегеровское «das Man» научной повседневности, бронированное почти колдовской силой автоматических присказок типа: «наука утверждает», «научно доказано», «научно не допустимо». Стереотип работал необратимо: ведь обратись он на самого себя, выяснилась бы научная недопустимость самой науки, которая всегда прокладывала свои пути не в угоду позднейшим параграфам, а под покровительством безумий и потрясений (Нильс Бор и сколько еще действительных высказывались в этом смысле). Этой науке и принадлежал Гёте; ее младенчество и возмужание, шаткую юность и зрелое мужество с любовью и вдохновением изображал он в «Истории учения о цвете», «романе о европейской мысли», по выражению Томаса Манна. Шум и ярость обрушились на стереотип. Сначала была растерянность; прирожденный научный гений, вооруженный только любовью к правде, наткнулся на корпорацию людей, предпочитающих своим духовным глазам «тысячу ложных параграфов» (7, 5, 367). Есть что-то потрясающе обнаженное, некий ужас ежедневно новорожденного в восклицании Гёте из письма к Якоби: «О, мой друг! кто такие ученые! и что они такое!» (9, 10(4), 220). Историки науки, касаясь этого вопроса, говорят, как правило, о пристрастности Гёте, о его несправедливых нападках на ньютоновскую школу, о вспышках субъективного гнева, омрачающего классически-гипсовую белизну образа олимпийца. В тени остается другая сторона: замалчивание, заушение, высокомерное отрицание, организованная дискредитация. «…В научном мире, — свидетельствует Гёте, — собственностью считается как то, что вошло в традицию учебных заведений, так и то, чему ты в них научился. Если кто-то вдруг заявляет о новом понимании того или иного явления и это понимание противоречит нашему кредо, которое мы годами обожествляли и уже успели передать другим, или, Боже упаси, грозит его ниспровергнуть, ярость обрушивается на этого смельчака и все средства пускаются в ход, чтобы подавить его» (3, 462). Смельчак, о котором идет речь, — он сам. Но смельчак не был этаким гасконским сорвиголовой, рассчитывающим в порыве провинциального вдохновения триумфально объехать Париж на сомнительного здоровья кляче; смельчак был тем, от которого иные падали в обморок, которого недвусмысленно уподобляли божеству, именем которого была названа целая эпоха. Гнев Гёте, потрясающие раскаты которого вызвучивают сотни страниц его трудов, был на деле ответом и самозащитой. Не он объявил войну; он просто шел своим путем, который, как оказалось, был запретным.
Гнев поддерживался пониманием. Верный своему принципу исследовать явления в их «как», а не в «почему», он и на этот раз проник в глубинные слои проблемы. Нижеследующий отрывок — уникальный в своем роде образец психогенеалогического анализа научности; Гёте, как нам кажется, впервые применяет здесь тот жанр философской генеалогии, открытие которого в европейской философии связывают с именем Фридриха Ницше. Речь идет не о чем ином, как о механизме фабрикации научного стереотипа: «Самое ужасное, что приходится выслушивать, — это неоднократно повторяемое заверение: все без исключения естествоиспытатели единодушны в этом. Кто, однако, знает людей, тому известно, как это случается: добрые, дельные, смелые головы выражают подобное мнение с помощью всяческих правдоподобных деталей; они делаются последователями и учениками, эта масса приобретает литературную власть; мнение усиливается, утрируется и проводится при наличии определенного азарта и волнения. — Что же остается другим, сотням и сотням благомыслящих, разумных мужей, которые работают в других специальностях и желают видеть и свой круг живым, действенным, почтенным и признанным, что остается им делать, как не допустить тех первых в свою область и не дать своего согласия тому, до чего им нет дела? Тогда это называется: всеобщее единодушие исследователей» (7, 2, 311).
В гораздо большей степени, чем в органике, наткнулся Гёте на это единодушие в своих работах; по оптике и хроматике. Объяснение оказалось простым и ясным, как день: там ему, собственно, не на что было натыкаться за отсутствием самой биологической науки (сопротивление шло слабыми и спорадическими реакциями); здесь «новорожденный» попал в саму цитадель, в верховную ставку математического естествознания.
Все произошло и на этот раз совершенно непреднамеренным образом. Он и на этот раз шел от самой природы и от глубочайших потребностей своего существа, «предаваясь им с детской, почти мальчишеской заботливостью» (9, 28(4), 280), скажет он впоследствии, шел, исполненный «невинной, шаг за шагом продвигающейся наивности», которую никогда не переставал считать чудом в себе (9, 28(4), 99). Выход к проблеме цвета, как и в случае органики, был обусловлен инстинктивным переживанием художника. Ища объяснения великим творениям искусства, он учился видеть сокровенное родство между ними и природой; природа была ему пробным камнем во всем; он, может быть, оттого и считал себя рожденным для эстетического (8, 40), что из всех форм человеческих деяний одно лишь искусство, в наивысших своих образцах, казалось ему до конца хранящим верность природе. В искусстве он видел продолжение природы Другими, более высокими средствами и стремился распознавать особенности этого перехода. Здесь он случайно столкнулся с элементом, который не мог объяснить ему ни один художник-живописец. Это был колорит. Объяснялось все прочее, композиция и перспективы; с цветом начинался тупик. «Как только дело доходило до краски, — вспоминает он, — все, казалось бы, предоставлялось случаю, причем случай определялся известным вкусом, вкус — привычкой, привычка — предрассудком, предрассудок же — особенностями художника, знатока, любителя» (7, 5, 124). Нужно было искать прочную основу, и случилось то, чего не могло не случиться: выход из тупика обещала одна лишь математическая физика.

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины, с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси; их беседы проходили в виде диалогов. Беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами: они представляют собой исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении.Простым языком раскрывается природа двойственности и состояния ее отсутствия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге дается краткий очерк жизни и анализ воззрений видного английского философа XVIII в. Д. Юма.Автор критикует его субъективно-идеалистическую и агностическую концепцию и вместе с тем показывает значение юмовской постановки вопроса о содержании категории причинности, заслугу философа в критике религии и церкви.
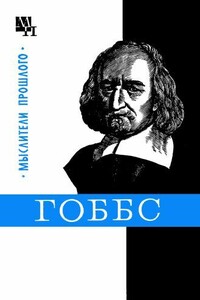
В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».
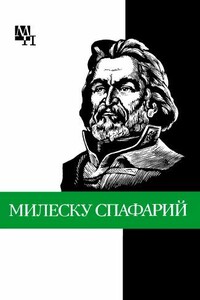
Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.
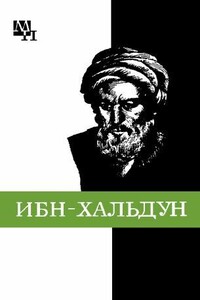
Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.