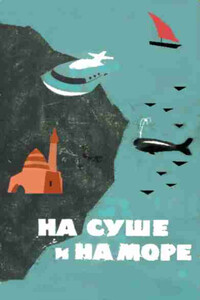Гёте - [37]
Здесь самое место рассмотреть вопрос со всей определенностью и развеять массу кривотолков, связанных со злополучной темой «интуиции». Рационалистическая традиция, судящая об интуиции лишь понаслышке, на манер этаких строго дискурсивных сплетен, основательно постаралась в научной профанации этого понятия, выдавая его за нечто художественно-наитийно-иррационально-смутное и попросту мистическое. Разумеется, в истории мысли есть и такие прецеденты. Но ведь небезгрешна в этом смысле и сама дискурсия, где, к примеру (выбирая таковой из избытка возможных), можно было утверждать и даже научно обосновывать, что когда человек жертвует собою во имя родины, веры или чести, то в основе этого лежат простые «химические реакции» (утверждение принадлежит крупному физиологу и биологу-экспериментатору прошлого века Жаку Лёбу. См. 25, 287–288). И если мы не дискредитируем дискурсию на основании подобных прецедентов, то отчего так сильно достается интуиции, когда она химическим реакциям предпочитает, скажем, алхимические? Следует подчеркнуть это со всей силой: интуиция, созерцательная мысль у Гёте не только не имеет ничего общего с иррационализмом или мистикой, но и является их активнейшей противоположностью.
Вот типичный (и простейший) пример интуиции в духе гётеанизма. Предположим, мы смотрим на растение. Физическое зрение фиксирует ряд ставших форм. Но мы знаем уже, что ни одна из этих внешне зримых форм не есть причина растения, и еще мы знаем, что формы эти не механически соположены, а органически сращены, т. е., глядя на них, мы вынуждены мыслить себе некий единый формообразующий принцип, без которого все они были бы невозможны. Стало быть, для объяснения растительного организма мы должны выйти за пределы сугубо чувственных восприятий, не дающих нам никакого опыта об указанном принципе. Он закрыт нашему чувственному созерцанию, и тем не менее, не видя его физически, мы знаем, что он есть. У нас, следовательно, есть понятие о нем и недостает лишь опыта. Если мы встанем на кантианскую точку зрения, нам придется сделать из всего этого поспешный вывод о невозможности опыта и спасать понятие от пустой химеричности перенесением его в эвристически-фикциональную зону мышления. Но мы не будем спешить и предпочтем без Канта убедиться в том, действительно ли невозможен опыт. Как в этом убедиться? Через опыт. Если чувственное созерцание не дает нам опыта, может, следует поискать его иначе. Возьмем семя какого-нибудь растения и попытаемся сосредоточиться на нем. Прежде всего отдадим себе отчет в том, что мы видим глазами. Мы видим крохотное семя, его форму и цвет. Но в то же время мы знаем, что суть видимого этим не исчерпывается, что в семени таится нечто гораздо более существенное, чем внешняя форма и цвет, но именно оно-то и остается незримым. Тогда мы прибегаем к помощи фантазии. Если посадить это семя в землю, говорим мы себе, из него вырастет растение. Значит, в семени незримо присутствует то, что в будущем разовьется как растение и что теперь недоступно нашим чувственным восприятиям. Мы, таким образом, создаем в фантазии растение, которое позднее станет действительностью в природе. Незримое станет зримым. Но прежде чем стать зримым, оно уже существует реально как творческая сила в семени. И мы ее мыслим, но мыслим не дискурсивно, ибо для дискурсивного понятия нам недостает опыта чувств. С другой стороны, только близорукость педанта сочла бы эту мысль химеричной на том лишь основании, что она не опирается на чувственные восприятия. Сила, заключенная в семени, — объективная реальность, обладающая сверхчувственным характером, и мы имеем о ней не менее реальный и объективный опыт, чем в случае наблюдения уже самого растения. Этот опыт дала нам фантазия, и, будучи полностью сообразным своему объекту, он должен также называться сверхчувственным. Очевидно, что мысль заимствует свое содержание не извне, а из самой себя. Вовне, в чувственной сфере, собственно говоря, нет ничего, что отвечало бы этому содержанию; мысль сама создает его себе и сама же синтезирует его в суждение. Но такая мысль и есть созерцательная (интуитивная) мысль, или тот высший орган восприятия, который сообразен органическому миру и который открывается в нас, когда нам удается хорошо увидеть специфику этого мира. Гёте называет его точной фантазией.
В отдельности взятые, точность и фантазия характеризуют две различные рубрики духовных способностей человека в строгом соответствии с правилами специализации. Точность мыслится как прерогатива естественных наук, фантазия отдана в распоряжение искусства. Разумеется, практика часто демонстрирует иное; история науки и история искусства имели бы непоправимо убогий вид, если бы их реальная жизнь свершалась по правилам, измышленным методологами и эстетиками. Но правила все же остаются правилами, и в конце концов им удается в популярных масштабах добиться того, чтобы о науке и искусстве судили не по их реальной жизни, а по схеме. Точная фантазия Гёте не умещается ни в одной из таких схем. Она есть гармоничное слияние науки и искусства на равноправных началах — не в том смысле, что художнику, дескать, нужно быть точным или (что и вовсе не то) научно образованным, а ученый-де должен эвристически использовать художество (по модели известного заявления Эйнштейна о том, что Достоевский дает ему больше, чем Гаусс), но принципиально и без обиняков: наука есть искусство, и искусство есть наука, причем взятые уже как одно целое. Гёте обнаруживает это целое не только в «Метаморфозе растений» и «Лекциях по сравнительной анатомии», но и в интимнейших шедеврах лирики.

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.