Гёте - [19]
Тон реплики откровенно просвечивает типично гётевской брезгливостью, не стесняющейся в выборе средств там, где речь идет о самозащите. Уже в глубокой старости он написал одному поэту, приславшему ему свои стихи, следующие строки: «Перелистал Вашу книжечку. Но поскольку, ввиду надвигающейся холеры, следует остерегаться вредоносного бессилия, отложил ее в сторону» (9, 48(4), 53). Этот ответ едва ли не в буквальном смысле исчерпывает его отношение и к философии. Для нее, признается он, «у меня не было слов, еще меньше фраз» (7, 2, 27). Внушаемое ею вредоносное бессилие вынуждало его откладывать ее в сторону и оставаться при своей первобытности. «Во всяком случае столько философии, сколько мне нужно до моей кончины, у меня еще есть в запасе; собственно говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии» (8, 60).
Корни этой неприязни легко проследить; они со всей ясностью обнаруживаются из общего своеобразия личности Гёте. Все в этой личности мешало ей установить положительную связь с философией, в особенности когда она проявлялась так, как в Новое время. Перечислим некоторые из наиболее существенных препонов. Несовместимыми оказались прежде всего таксономически-самоопределительная тенденция философии и его врожденное отвращение ко всякого рода ярлыкам. Философ уже не мог быть просто и непосредственно философом, каким он был в прежние времена; он должен был пройти, подобно растениям в системе Линнея, соответствующую номенклатурную обработку и сортировку для получения исправных документов, без которых его ожидали бы большие неприятности чисто профессионального толка. Нужно было быть «пантеистом» или «атеистом», «идеалистом» или «реалистом», «эмпириком» или «рационалистом», ну и поскольку одно и то же растение, скажем, из группы Monocotyledones (односемянодольных) не могло одновременно фигурировать под рубрикой Dicotyledones (двусемянодольных), то оказывалось нежелательным нарушение соответствующей рубрикации и философами, которым в отместку была уготована особая и, с позволения сказать, штрафная рубрика «эклектики». То, что «эклектичной» являлась сама Вселенная, допускающая все без исключения точки зрения, даже «солипсистскую», не принималось в расчет; порядок рыл превыше всего, и ради таксономической стройности ситуации можно было пожертвовать «тоном, делающим музыку». Этот порядок сам по себе и при «умеренном непритязательном употреблении» (7, 3, 287) вполне соответствовал духу Гёте; ужас начинался там, где права его распространялись на все, и особенно, когда внешняя условная номенклатура заслоняла, а то и вовсе вытесняла живую сущность. Приговор Гёте окончателен и безапелляционен: «Каждый друг учения о природе ежечасно вздыхает и восклицает: кто спасет меня от этой смерти!» (9, 28(4), 310). Разрыв с Лафатером, ценнейшим другом юности, был предопределен с того момента, когда последний потребовал от него именно такого однозначного самоопределения: либо христианин, либо атеист. Впоследствии выход был найден с помощью игры: «счастливый фокусник» замешал в колоду номенклатур неуловимого джокера-инкогнито, с истовой старательностью изощрявшегося в мастерстве «дурачить публику». О философии не могло быть и речи; «с тех пор как я вынужден был оторваться от традиционного естествознания и, предоставленный самому себе, блуждаю, словно монада, по духовным стезям науки, я редко испытывал влечение к той или иной теории» (9, 15(4), 117). Самоопределение в общепринятом смысле слова оказывалось химерой, так как требовало однозначности. К концу прошлого века берлинский академик Э. Дюбуа-Реймон, прославившийся открытием «Ignorabimus» (лозунг, означающий: «Не будем знать»), сетовал на Гёте в связи с Фаустом, который, вместо того чтобы снюхиваться с чертом и обольщать честных барышень, должен был заняться наукой и стать университетским профессором. Маститого академика едва ли устраивало то, что всеученейший Фауст, поставленный перед необходимостью номенклатурного самоопределения, перечисляет ряд осиленных им специальностей и останавливает свой выбор на семействе «бедных дураков» («Da steh'ich nun, ich armer Tor!»). Гётевская натура «хамелеона» сработала и здесь: «Что до меня, то при многообразных направлениях моего существа, я не могу довольствоваться одним способом мышления; как поэт и художник я политеист, как естествоиспытатель — напротив, пантеист, и в первом столь же решительно, как и во втором. Если мне, как нравственному человеку, потребуется единый Бог, то я позабочусь и об этом». «Небесные и земные вещи, — прибавляет он, — образуют царство столь обширное, что только органы всех существ в совокупности способны объять его» (9, 23(4), 226). Не меньшей помехой в отношениях Гёте с философией оказалась и господствующая в ней тенденция к внутренней содержательной выхолощенности под знаком все той же номенклатуризации. Общий стиль эпохи с особенной силой утверждался именно здесь. Гёте застал лишь начальные симптомы процесса, обещавшего такую безрадостную будущность, но и о будущности можно было вполне догадываться по симптомам. Вставал вопрос: что есть сама философия? Есть ли она личное творчество или некая методологически вышколенная процедура мышления, в которой основополагающая роль уделена не столько личным качествам философа, сколько степени его верности объективным и формальным нормам самой процедуры? Верно то, что философия с момента вступления в пору зрелости прямыми и косвенными путями шла к очищению от всяческого субъективизма, но верно и то, что в этом пункте скрещивались сила ее и слабость. Сила — так как нельзя было и надеяться на возможность философского подхода без предварительного очищения мысли от необязательных субъективистских привкусов, но и слабость — так как, последовательно очищая мысль от случайных и побочных факторов, настолько увлеклись самой чисткой, что решили очистить мысль вообще от всех признаков индивидуальности. Нет никакой возможности подробнее войти в эту тему; скажем лишь, что именно здесь коренилась инстинктивная опасливость Гёте по отношению к философии. С какого-то периода (можно датировать его началом Нового времени) философия постепенно берет курс на интеллектуалистический тип мировоззрения, где сам интеллект берется не в соотнесенности с курсом ангелологии, как у схоластических докторов, а иначе; рассудочность, логизированность, понятийность, лишенные интуитивно обретенной содержательности и выступающие только в качестве форм, занимают в ней центральное место, претендующее к тому же на единственность. Неважно, идет ли речь о рационалистах или эмпиристах, крайности сходятся в одном: в растущей тенденции к формализованной абстрактности, и в этом смысле все упреки эмпиристов в адрес рационалистов по поводу отвлеченного мышления описывают круг и поражают их самих, выказывающих не меньшую отвлеченность в своих вполне чувственных конкретизациях. Образно выражаясь, философия, равная некогда всей личности в комплексе ее духовных, душевных и телесных проявлений, стягивается в фокус только головы (рассудочного мышления); свершается, так сказать, планированное и последовательное изгнание ее из всего существа человека: из рук, из ног, из сердца, из мимики, с тем чтобы уготовить ей постоянную прописку в голове без права выезда. Отныне она изживается уже не в жесте, не в поступи («

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Трактат бельгийского философа, вдохновителя событий Мая 1968 года и одного из главных участников Ситуационистского интернационала. Издан в 2019 году во Франции и переведён на русский впервые. Сопровождается специальным предисловием автора для русских читателей. Содержит 20 документальных иллюстраций. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге дается краткий очерк жизни и анализ воззрений видного английского философа XVIII в. Д. Юма.Автор критикует его субъективно-идеалистическую и агностическую концепцию и вместе с тем показывает значение юмовской постановки вопроса о содержании категории причинности, заслугу философа в критике религии и церкви.
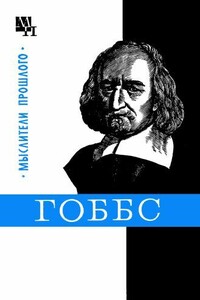
В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».
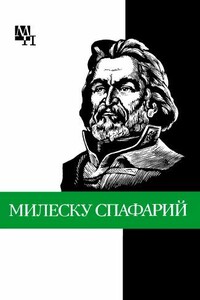
Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.
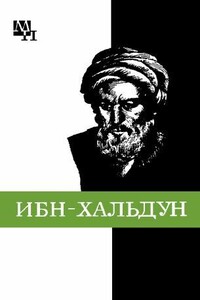
Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.