Героин - [17]
Бартек опять на стадии снежного эмбриона. Ему бы очень не помешало немного пыхнуть, но сначала он должен съесть суп.
Потом я снова немного курю. Я должен выбрать золотую середину, чтобы не протрезветь и не заснуть. Я бужу Габриэля, а когда до него доходит, где он находится и что это я к нему обращаюсь, в его глазах появляется настолько откровенная боль и страх, что я не могу налюбоваться его красотой.
— Томек, — говорит он, — Томек, если я не пыхну, то сегодня меня просто порвет. Дай мне пыхнуть. Я все сделаю, все, что хочешь. Пожалуйста. Пожалуйста. В самом деле, прошу тебя.
И где тот дикарь, который вчера кусался и плевался? Но это хорошо. Он должен просить. Он должен через это пройти. Он должен увидеть сам, насколько сильно над ним властвует героин.
Пятью минутами позже Габриэль становится на колени посреди комнаты и ждет, пока я не дам ему героина. Я поднимаю вверх кулечек с коричневым порошком — один из многих кулечков, которыми я себя снабдил на время Большого Обдолбежа, — и показываю его ему. Потом я приказываю ему раздеться догола и проскакать через всю комнату на одной ноге.
Едва я успеваю огласить приказ, Габриэль бросается на меня с кулаками. И я вижу, что он плачет, Я точно не знаю, как это делается, но успеваю выставить кулак вперед, и Габриэль идеально на него напарывается… Хрясь! Шлеп! И он садится на пол с разбитым носом.
Это был для него хороший урок, потому что сейчас он прыгает голый на одной ноге из одного угла в другой — я выбрал трассу по диагонали комнаты, она длиннее, — а кровь все капает из носа.
Потом я ем суп, ничего себе супчик, а Бартек сидит на Габриэле. Сразу же после супа я снова могу пыхнуть коричневого порошка. На этот раз я делаю четыре изрядных хапки и опять превращаюсь в большую счастливую маму. Сладость накапливается во мне, и я с легким замешательством вспоминаю, что я целое утро не делал того, что нужно. Потому что я целое утро совсем не был мамой. Я вел себя как кто-то чужой и неприятный. Я вспоминаю, что бываю таким на трезвяк и решаю также изменить собственную жизнь, ну, по крайней мере, ту ее часть, которая протекает в трезвом состоянии. Это нужно сделать, поскольку я курю уже так долго, что этот трезвый, неприятный Томек уже немного приобрел иммунитет и появляется даже в состоянии упыханности. На трезвяк лучше быть Габриэлем. В Габриэле есть какая-то мягкость, даже на трезвяк. Нельзя ли употребить Габриэля, так, как употребляют героин?
Эта мысль блаженна, и я засыпаю в кровати радом с Габриэлем и Бартеком, сидящим на нем.
А потом я просыпаюсь приклеенный собственной блевотиной к постели. Она отделяет меня от Габриэля, как меч отделяет рыцаря от возлюбленной. Но ничего, Бартек и так уберет.
Я доедаю остатки супа. У меня квелый мозг. Я в состоянии планировать только с минутным опережением. Я вижу, как сильно Габриэль меня ненавидит. Это, собственно говоря, не ненависть, а нечто звериное. Я довольно долго пытаюсь это определить, но не могу. В состоянии, в котором я нахожусь, я ничего не способен определить. Я не смог бы даже дать определение стулу. Может, я для него являюсь чем-то вроде кресла.
Наконец-то я решаю, что Габриэль запишет магнитофонные кассеты со своими мыслями на тему собственных поступков, которые мы потом подкинем его маме. Таким образом, ему будет легче признать собственную вину. Ну и его мать, если что-то такое получит, так, наверное, меня вообще полюбит. И никогда не поверит, что я тоже курю.
Мы сидим возле магнитофона. Я должен был пообещать Габриэлю за это немного геры. Не знаю, поверил ли он мне, но он говорит:
— Это страшная боль… И мне очень досадно… Я понимаю, какую боль я тебе причинил С этого времени… ыыы, все, что я буду делать… я буду делать для того, чтобы показать тебе что я хочу тебе это возместить…
Я выключаю магнитофон и отчитываю его за недостаток чувств, а потом мы продолжаем запись:
— …чтобы ты уже никогда не жалела, что у тебя есть сын. Ведь хотя я тебя и обманул я люблю тебя, мамуля… — внезапно Габриэль взрывается плачем, что само по себе является превосходным эффектом, о котором я и мечтать не смел. Поэтому мы заканчиваем запись, потому что лучше уже просто не может быть. Бартек следит за дверью и курит. Я должен был дать ему первому: он очень жалуется, что так долго сидел на Габриэле и до сих пор даже не смог нормально пыхнуть.
Потом я усаживаюсь на голого Габриэля. Но, несмотря на это, делаю пять глубоких, действительно глубоких хапок, склонившись над его лицом. Он чувствует, что со мной происходит, потому что начинает беситься. Он вертится, к счастью, у него уже нет слюны, чтобы плюнуть. А я решаю сделать ему что-то такое, чтобы ему было лучше всех. Мамы способны окутать собой ребенка, прижать к себе, даже обвиться вокруг него, чтобы он почувствовал себя опять как перед рождением. Это несколько сложно, и Габриэлю удается высвободить одну руку из-под моего колена и схватить скатерть со стола, стоящего рядом. Я засыпаю на секунду, когда он как раз стягивает скатерть на пол. Слетают ложки, тарелки и нож для хлеба. Ему удается поймать этот нож. Я пытаюсь схватить его за руку, но я слишком спокоен, и он разрезает мне ладонь. Мне, конечно же, не больно, но я благоразумно одергиваю руку, оставляя широкий красный след на постели. Бартек под стеной улыбается, что, вероятно, похоже на истерический крик по трезвяку. Габриэль легонько колет меня под ребро, чтобы я встал, а когда я встаю, мой клевый парнишка высвобождается, постоянно угрожая мне ножом. Но я знаю, что делаю. Я не останавливаюсь, а упрямо иду в его сторону, подходя все ближе. Наконец я прыгаю и напарываюсь животом на нож.
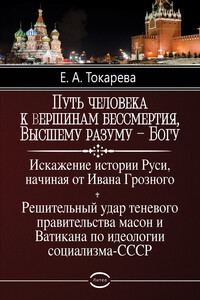
Прошло 10 лет после гибели автора этой книги Токаревой Елены Алексеевны. Настала пора публикации данной работы, хотя свои мысли она озвучивала и при жизни, за что и поплатилась своей жизнью. Помни это читатель и знай, что Слово великая сила, которая угодна не каждому, особенно власти. Книга посвящена многим событиям, происходящим в ХХ в., включая историческое прошлое со времён Ивана Грозного. Особенность данной работы заключается в перекличке столетий. Идеология социализма, равноправия и справедливости для всех народов СССР являлась примером для подражания всему человечеству с развитием усовершенствования этой идеологии, но, увы.

Установленный в России начиная с 1991 года господином Ельциным единоличный режим правления страной, лишивший граждан основных экономических, а также социальных прав и свобод, приобрел черты, характерные для организованного преступного сообщества.Причины этого явления и его последствия можно понять, проследив на страницах романа «Выбор» историю простых граждан нашей страны на отрезке времени с 1989-го по 1996 год.Воспитанные советским режимом в духе коллективизма граждане и в мыслях не допускали, что средства массовой информации, подконтрольные государству, могут бесстыдно лгать.В таких условиях простому человеку надлежало сделать свой выбор: остаться приверженным идеалам добра и справедливости или пополнить новоявленную стаю, где «человек человеку – волк».
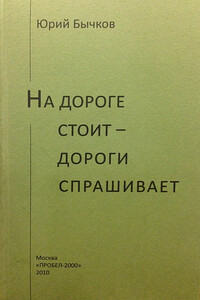
Как и в первой книге трилогии «Предназначение», авторская, личная интонация придаёт историческому по существу повествованию характер душевной исповеди. Эффект переноса читателя в описываемую эпоху разителен, впечатляющ – пятидесятые годы, неизвестные нынешнему поколению, становятся близкими, понятными, важными в осознании протяжённого во времени понятия Родина. Поэтические включения в прозаический текст и в целом поэтическая структура книги «На дороге стоит – дороги спрашивает» воспринимаеются как яркая характеристическая черта пятидесятых годов, в которых себя в полной мере делами, свершениями, проявили как физики, так и лирики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«А насчет работы мне все равно. Скажут прийти – я приду. Раз говорят – значит, надо. Могу в ночную прийти, могу днем. Нас так воспитали. Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть. А как еще? Иначе бы меня уже давно на пенсию турнули.А так им всегда кто-нибудь нужен. Кому все равно, когда приходить. Но мне, по правде, не все равно. По ночам стало тяжеловато.Просто так будет лучше…».

«Человек не должен забивать себе голову всякой ерундой. Моя жена мне это без конца повторяет. Зовут Ленка, возраст – 34, глаза карие, любит эклеры, итальянскую сборную по футболу и деньги. Ни разу мне не изменяла. Во всяком случае, не говорила об этом. Кто его знает, о чем они там молчат. Я бы ее убил сразу на месте. Но так, вообще, нормально вроде живем. Иногда прикольно даже бывает. В деньги верит, как в Бога. Не забивай, говорит, себе голову всякой ерундой. Интересно, чем ее тогда забивать?..».

«Вся водка в холодильник не поместилась. Сначала пробовал ее ставить, потом укладывал одну на одну. Бутылки лежали внутри, как прозрачные рыбы. Затаились и перестали позвякивать. Но штук десять все еще оставалось. Давно надо было сказать матери, чтобы забрала этот холодильник себе. Издевательство надо мной и над соседским мальчишкой. Каждый раз плачет за стенкой, когда этот урод ночью врубается на полную мощь. И водка моя никогда в него вся не входит. Маленький, блин…».

«Сегодня проснулся оттого, что за стеной играли на фортепиано. Там живет старушка, которая дает уроки. Играли дерьмово, но мне понравилось. Решил научиться. Завтра начну. Теннисом заниматься больше не буду…».