Геродот - [141]
А на кого было ссылаться Геродоту? Не то чтобы до него совсем никто не писал о Греко-персидских войнах>{175}, но, во всяком случае, никто не делал это с такой степенью фундаментальности, подробности, детализации. Сам историк тоже не являлся непосредственным очевидцем описываемых им событий: в момент изгнания персов из Эллады он был еще ребенком.
В результате ему приходилось, объезжая города и страны, в буквальном смысле «снимать показания» со свидетелей происшедшего. Он действовал как самый настоящий следователь (впрочем, как мы уже знаем, само слово «история» изначально обозначало как раз что-то вроде «следствия»). Когда же речь идет о событиях более древних, свидетелей которых заведомо невозможно было найти, Геродот опирался на богатейшую устную традицию. Тут и там он внимательно слушал (и записывал) то, что предлагали ему местные жители: рассказы о прошлом, легенды, предания, даже анекдоты и сказки… И сохранил всё это для нас — пусть не без некоторого сумбура.
Можно, конечно, сказать, что «Отец истории» некритично относился к оказавшемуся в его распоряжении разнородному материалу, не был склонен отделять истину от досужих побасенок. Но вряд ли стоит порицать его за это. Ведь галикарнасец выработал специфическую, вполне сознательную позицию. Повторим ее еще раз, ведь без ее постижения невозможно понять Геродота: «…мой долг передавать всё, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан. И этому правилу я буду следовать во всем моем историческом труде».
Автор этих строк вспоминает свои студенческие годы. Первый курс исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Лекции о началах русской истории читает легендарный ученый — академик Б. А. Рыбаков. (Кстати, среди его многочисленных работ — книга «Геродотова Скифия»>{176}, так что творчество Геродота он знал прекрасно.) В одной из лекций Борис Александрович приводит эту цитату из «Отца истории». Признаться, она прозвучала тогда как гром с ясного неба. Как-то не укладывалось это в наши тогдашние представления о принципах работы историка. Конечно, тогда подавляющее большинство из нас не читало еще ни Геродота, ни Фукидида, а историю знало по школьным учебникам. Но подспудно в нас, видимо, уже успел въесться типично фукидидовский дух: историк должен приводить только такие свидетельства, которым он доверяет, подвергать материал тщательному отбору. А тут вдруг — передавать всё, даже то, чему не веришь. А это ведь действительно очень по-геродотовски. Вспомним, как часто нам уже встречалось: галикарнасец рассказывает о чем-нибудь, и вдруг — скептически-насмешливое замечание в скобках: дескать, сам-то я, конечно, этому нисколько не верю.
Не верю, а все-таки записываю — в этом и есть ключевой принцип Геродота: открытость для любой информации. Он едва ли не более плодотворен, чем подход Фукидида — просеивать все данные через сито критики и оставлять только те, которые выглядят заведомо достоверными. Ведь на самом деле это слишком субъективный критерий. То, что казалось вполне заслуживающим доверия древнегреческому историку, подчас может вызвать лишь улыбку у исследователя наших дней. А самое главное — наоборот тоже бывает: иногда то, чему не верил Геродот (например, тому, что Керченский пролив зимой замерзает), но всё же написал об этом в своем труде, ныне признается как абсолютно безусловный факт. Одним словом, взгляды Геродота — взгляды историка «широкого полета».
Иногда высказывается мнение, что среди источников галикарнасского историка удельный вес письменных свидетельств был более значителен, чем принято считать. Не думаем, что это верно. Сказать, что Геродот совсем не пользовался трудами более ранних авторов — явное преувеличение. Мы уже убедились, что, например, труд Гекатея Милетского он прекрасно знал — и вовсе не скрывал этого знания, ссылался на Гекатея, где требовалось. Есть у него и другие ссылки на письменные тексты. Однако подсчитано: их в пять раз меньше, чем ссылок на лиц, информировавших автора изустно>{177}. И уже сам этот факт, наверное, отражает реальное соотношение происхождения полученных им данных. Вряд ли мы имеем право предположить, что Геродот хитрил, сознательно старался преуменьшить использование в своей работе письменной традиции. Зачем ему это было делать?
«Отец истории» наблюдал, задавал вопросы, побуждал очевидцев событий делиться с ним воспоминаниями и, конечно, иногда сверялся с теми немногими папирусными свитками, которые попадали ему в руки (большим их количество ко времени жизни Геродота попросту не могло быть: прошло лишь несколько десятилетий со времени появления исторической прозы, и она, в сущности, делала первые робкие шаги).
У Геродота наиболее часты ссылки типа «По словам лакедемонян…», «Афиняне говорят…», «Как считают коринфяне…» и т. п. Имен он чаще всего не называет. Тем труднее представить себе, что в основе таких сообщений лежит какой-то письменный источник, например, исторический труд. Тогда, несомненно, были бы указаны конкретные авторы и Геродот не выражался бы столь туманно-абстрактно, ведь не существует исторических сочинений, написанных и подписанных «афинянами» и «коринфянами». Во всех таких случаях речь явно идет о «коллективном мнении» народа того или иного эллинского (или неэллинского) государства, об устойчивой традиции, а если выразиться современным языком, — о «национальной мифологии».
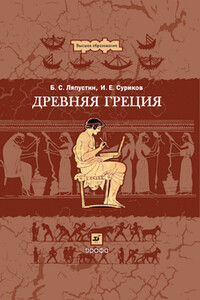
В учебном пособии представлен материал по истории Древней Греции, изучаемой студентами исторических специальностей вузов в курсе «История Древнего мира».Цивилизационный подход к освещению развития древнегреческого мира позволяет по-новому рассказать о многих исторических феноменах, о различных сторонах жизни древнегреческого общества.Изложение материала и датировка событий опираются на новейшие научные разработки. В каждой главе приведены основные источниковедческие и историографические сведения, указана литература по теме.
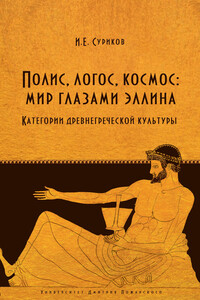
Вклад древних греков в мировую и особенно европейскую историю колоссален. Античная греческая цивилизация – в полном смысле слова фундамент всей последующей жизни Европы. Без преувеличения можно сказать, что ни один другой народ не обогатил культурную сокровищницу человечества таким количеством шедевров и плодотворных идей. Успехи эллинов во всех областях культурного творчества были феноменальными, неповторимыми.Книга о древнегреческой культуре, о народе, создавшем эту культуру, об особенностях его мировосприятия, сознания, системы ценностей, о его «картине мира» – это книга о важном, основополагающем, фактически о наших корнях.
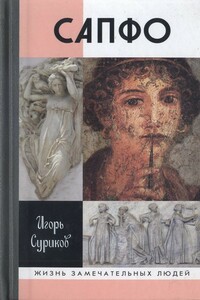
Сапфо — фигура, известная, наверное, всем. Она — первая не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе посвящена эта книга, в которой — в связи с судьбой героини — подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в целом.знак информационной продукции 16+.
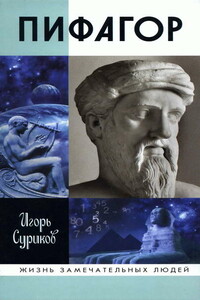
Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказательство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы и сумме квадратов катетов — лишь малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между прочим, первым введший в оборот слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разработавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерьез воспринимали как бога или полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной революции».
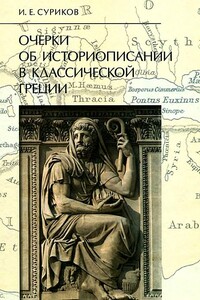
Монография представляет собой результат исследований в области древнегреческой историографии, проводившихся автором на протяжении ряда лет. Книга состоит из двух частей. В главах первой части анализируются общие особенности исторической памяти и исторического сознания в античной Греции. Освещаются следующие сюжеты: соотношение исследования и хроники в историографии, аспекты зарождения исторической мысли, место мифа в конструировании прошлого, циклистские и линейные представления об историческом процессе, взаимовлияние историописания и драматургии, локальные традиции историописания в античном греческом мире, элементы иррационального в произведениях классических греческих историков и др. Вторая часть посвящена различным проблемам творчества «отца истории» Геродота.
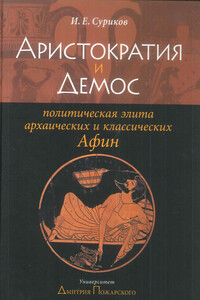
Огромную роль в общественной жизни древнегреческих государств играли политические элиты различного характера. Поэтому одной из наиболее серьезных проблем, встающих в связи с изучением античного греческого полиса и сложившегося в его рамках социума, является роль политических элит в нем. В книге освещается круг проблем, связанных с местом элит в полисе, их типологией, их механизмами власти и идеологическим обоснованием этой власти. Затронуты такие вопросы, как основные типы полисных элит, методы достижения и сохранения влияния, практиковавшиеся элитами, взаимоотношения элит и гражданского коллектива, их эволюция в связи с изменением общих исторических условий.
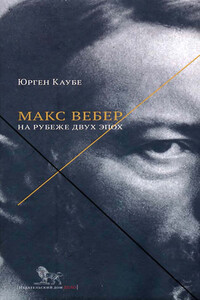
В тринадцать лет Макс Вебер штудирует труды Макиавелли и Лютера, в двадцать девять — уже профессор. В какие-то моменты он проявляет себя как рьяный националист, но в то же время с интересом знакомится с «американским образом жизни». Макс Вебер (1864-1920) — это не только один из самых влиятельных мыслителей модерна, но и невероятно яркая, противоречивая фигура духовной жизни Германии конца XIX — начала XX веков. Он страдает типичной для своей эпохи «нервной болезнью», работает как одержимый, но ни одну книгу не дописывает до конца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
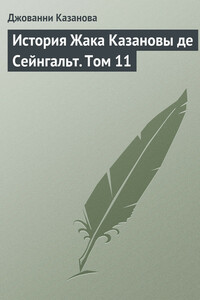
«Я вхожу в зал с прекрасной донной Игнасией, мы делаем там несколько туров, мы встречаем всюду стражу из солдат с примкнутыми к ружьям штыками, которые везде прогуливаются медленными шагами, чтобы быть готовыми задержать тех, кто нарушает мир ссорами. Мы танцуем до десяти часов менуэты и контрдансы, затем идем ужинать, сохраняя оба молчание, она – чтобы не внушить мне, быть может, желание отнестись к ней неуважительно, я – потому что, очень плохо говоря по-испански, не знаю, что ей сказать. После ужина я иду в ложу, где должен повидаться с Пишоной, и вижу там только незнакомые маски.
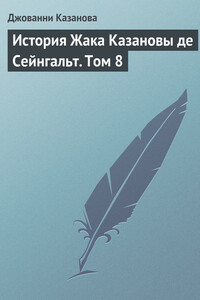
«В десять часов утра, освеженный приятным чувством, что снова оказался в этом Париже, таком несовершенном, но таком пленительном, так что ни один другой город в мире не может соперничать с ним в праве называться Городом, я отправился к моей дорогой м-м д’Юрфэ, которая встретила меня с распростертыми объятиями. Она мне сказала, что молодой д’Аранда чувствует себя хорошо, и что если я хочу, она пригласит его обедать с нами завтра. Я сказал, что мне это будет приятно, затем заверил ее, что операция, в результате которой она должна возродиться в облике мужчины, будет осуществлена тот час же, как Керилинт, один из трех повелителей розенкрейцеров, выйдет из подземелий инквизиции Лиссабона…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.
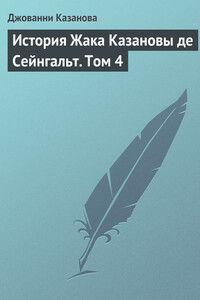
«Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная.Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу Сгомбро (Макрель) влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.