Герцен - [3]
Точно так же не был он цельным художником. Он в своей беллетристике не священнодействовал, и она у него – такая, для которой специально художником и не надо быть, которая требует лишь общей талантливости и культурного ума. Романист между прочим; создавший Бельтова, покорствуя направлению, едва ли не потому только, что были Онегин и Печорин; своим остроумием пошедший навстречу остроумию Гоголя, Герцен и в этой области не дал себя всего, он и здесь не раскрывает своей многосложной сущности. Разрозненные элементы не слагались в одно целое. Те словесные драгоценности, которые он щедрой рукою рассыпал по своим произведениям, играют и горят; но порою утомительно действуют его чрезмерная, не всегда желанная образность, обилие метафор и обилие острот. Он пресыщает блеском. Он слишком охотно внутренним явлениям придает внешние признаки, на каждом шагу конкретизирует отвлеченное, и рядом с образами и сравнениями, которые пленительны по своей поэтичности, он может сказать нечто такое, что болезненно заденет нашу впечатлительность. Из россыпи примеров, какую представляет его творчество, трудно выбирать, – но вот вспомним хотя бы то, как увлекательно говорит он о своих настроениях после 14 декабря: «Время светлых лиц и надежд, светлого смеха и светлых слез кончилось. Порядком понял я это после, но впечатления того времени, переплетаясь с мифическими рассказами 1812 года, составили в моей памяти то золотое поле, на котором еще чернее выходят лики святых». Но он же думает, что мысль о самостоятельной роли человеческой личности в мировом процессе будет яснее, если вычурно написать: «Мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории». Вкус иногда изменял ему и лукаво уводил от художественной строгости линий. Если красива картина, изображающая природу, которая «тысячи и тысячи лет лежала в каменном обмороке», если так изысканны и изящны эти слова, что море «мерными стопами вовеки нескончаемых гексаметров плещет в пышный карниз Италии», а «спондей английских часов» делит в старых покоях время на части, то не радуют своей ненужной осязательностью выражения вроде того, что «человечество еще долго проходит с воротничками a l'enfant». Вообще, Герцен иногда больше светил, чем грел, и он строил в стиле барокко.
Его остроты доставляют высокое наслаждение, его находчивость восхищает. Неудержимо воспринимал он все комическое в вещах и людях, его ум играл, он искрился шутками, в русской жизни, в ее характерных персонажах, находя себе изобильное питание. И такова была природа Герцена, что ему легче и естественнее было острить, чем не острить; ему сподручнее было сказать не «швейцарский сыр», а «плачущее, рябое дитя Швейцарии». При этом его потешные огни нередко таили в себе нечто серьезное, и от ракеты его каламбуров иной раз содрогалась реальная русская тьма. И мы вовсе не ропщем на то, что он любил, запоминал и записывал свои остроты. Но, с другой стороны, наклонность к смешному и светский элемент анекдота побуждали его острить и тогда, когда это бывало неуместно или жестоко. И они же не могли порою не пересекать дороги его глубокомыслию и патетичности: затейливый водопад остроумия в глазах и автора, и улыбавшихся читателей как бы получал не свойственное остроумию самодовлеющее значение.
Художник, или почти художник, Герцен, рассказывая о себе, в литературу превращал свои грехи и слабости: он округлял события и ощущения, так что от его эстетики исчезала их действительная шероховатость, их жизненная грубость, и многое принимало у него какой-то общий, преувеличенный и романтический вид. Его эстетизму судьба посылала достаточно разительных эффектов – он столько пережил чужих смертей, прежде чем пришла к нему собственная, он испытал столько исключительных впечатлений – и вот из этих материалов виртуозно воздвигал он свою знаменитую хронику. Литература помогла ему вынести на всенародный суд и зрелище свои интимные, свои семейные дела, и так он был прав, что сочетал личное с общим, он соединил их в одну эпопею, он заинтересовал своим чужих, и рассказ о его личной жизни неизбежной страницей входит в объективную историю России.
Энциклопедизм Герцена раскрывал перед ним двери и в область научно-философского знания. В своих статьях о буддизме и дилетантизме в науке он дал удивительную характеристику и такого отношения к науке, которое проникнуто платоновским эросом, и такого, которое является уделом гетевских Вагнеров. Сам он, если бы отдался научной работе, был бы в кругу ее светил. Свою большую образованность он нес легко, медали и монеты своих философских этюдов, своей литературы вообще он чеканил непринужденно.
Все эти доли герценовского богатства одна другую пополняли, но и одна другой не всегда соответствовали. Для законченной гениальности у них должна бы быть, помимо литературной, еще другая объединительная связь – глубокая почва нравственной силы и духовной серьезности. Пышное здание Герцена не было увенчано тем куполом, который дает религия. Ему на земле не было тесно. И Бога единого, благоговейного служения единой и всеобъемлющей вере мы у Герцена не находим. Он был в конце концов тонкий эпикуреец духа, великий артист русской литературы. Он в изысканную психологическую сладость претворял даже свои печали; недаром упрекал его Огарев в «эпикуреизме горести». Он красиво страдал. На кладбище в Ницце, глядя на родные могилы и на места, приготовленные для могил будущих, он думал о том, что не следует ему покидать чужбины: «Осиротеет тогда кладбище в Ницце, а я иногда смотрю с удовольствием на наши места и думаю: вот тут будет Огарев, тут я, – все же замкнутая история и даже точка будет общая», – какая дивная элегия, какое стремление к идеалу гармонической завершенности! Да, он был эпикуреец радостей и скорбей, – но он был также и эпикуреец борьбы. Утонченный знаток и ценитель жизненного вина, пусть и принадлежал он к «приветливым потомкам Аристиппа», – но в отличие от них он не только не искал покоя, не уклонялся от дела, но и чувствовал в нем неодолимую потребность. Он не мог не действовать. Он любил человеческий героизм и приобщился к нему сам, – не бесследно Герцен прочитал своего Плутарха. В конце жизни, разбитый, утомленный, разочарованный, он все же не погасил огня своей энергии, и никогда не умолкал хотя бы последний звон, вечерний звон его душевного колокола.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
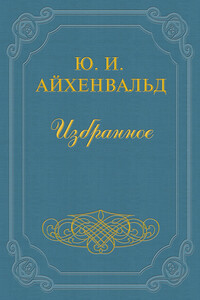
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».
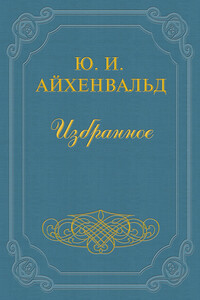
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».
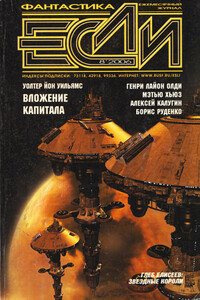
Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Это решительно лучшее из всех «драматических представлений» г-на Полевого, ибо в нем отразилось человеческое чувство, навеянное думою о жизни; а между тем г. Полевой написал его без всяких претензий, как безделку, которая не стоила ему труда и которую прочтут – хорошо, не прочтут – так и быть!…».

«…Не знаем, право, каковы английский и немецкие водвили, но знаем, что русские решительно ни на что не похожи. Это какие-то космополиты, без отечества и языка, какие-то тени без образа, клетушки и сарайчики (замками грешно их назвать), построенные из ничего на воздухе. В них редко встретите какое-нибудь подобие здравого смысла, об остроте и игре ума и слов лучше и не говорить. Место действия всегда в России, действующие лица помечены русскими именами; но ни русской жизни, ни русского общества, ни русских людей вы тут не узнаете и не увидите…».

«…К числу особенных достоинств статей, помещаемых в этом издании, должно отнести их совершенную соответственность и верность идее и цели: так, например, «Уральский казак» – это не повесть и не рассуждение о том, о сем, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в «Наших» читается, как повесть, имеющая все достоинство фактической достоверности…».

«Во все времена человеческой жизни, с тех пор как люди себя помнят, были войны. Войны, с тех пор как существуют государства, начинались правительствами, а кончались – борьбой сословий; бедные принимались бороться с богатыми. Богатые противились и не хотели уступать. Тогда начинались народные движения; более долгие и более мирные движения называются реформациями, а более короткие и более кровавые – революциями…».